— Спокойно, — тихо говорила Мона. — Мы все — сестры. Мы тоже были на твоем месте. Продолжай. Переложи свое бремя на нас.
— Ну вот, — выдохнула женщина, — я сказала ему, что беременна. Я думала, он обрадуется… — Она затряслась от новых рыданий. — Он встал, я решила, что он поцелует меня, подбодрит, а он… знаете, что он сделал? Он дал мне пощечину. Я слетела со стула, а он закричал, назвал меня шлюхой и сукой и обвинил, что я поймала его в ловушку. — Она забилась в рыданиях, а Мона, поблескивая своими темно-вишневыми линзами, начала массировать ей виски.
— А ты? — тихо спросила она.
— Я просто лежала на полу. Я была сбита с толку, я не ожидала такой жестокости. Я любила его. Он знал, что до него у меня никого не было. Я не верила, что он ударит меня. Он всегда был нежен и ласков. А потом он ударил меня в живот. У него на ногах были армейские ботинки, и он ударил очень сильно. Закричал, что не собирается связываться с такой шлюхой, и все бил и бил в живот… — Она снова зарыдала. Кто-то похлопал ее по груди. На всех лицах царило зловещее выражение.
— И что дальше? — грозно спросила Мона. Я никогда не замечала, что у нее такое мстительное лицо.
— Он ушел, когда я была на седьмом месяце, и больше не вернулся. Я ползала по кухне на коленях, мыла линолеум. Он был помешан на чистоте. Мне было все равно, блестит ли линолеум, я старалась ради него. Он был тогда без работы, только иногда играл по вечерам в оркестре. Я работала и содержала нас обоих. Ну вот, я не выдержала тогда, склонилась над ведром и расплакалась. Я очень устала, а еще надо было выгладить ему рубашку и идти на работу. Слезы падали прямо в ведро. В эту минуту он и пришел. Он не ночевал дома, наверно, был у какой-то женщины. Он брезгливо посмотрел на меня и сказал: «Господи! Вот страшилище! Лохматая, грязная! Как я мог тебя столько терпеть?» Он бросил в сумку свои вещи и ушел. Больше я его не видела.
— Продолжай, — прошептала Мона. — Переложи на нас свое бремя.
На лицах женщин жалость сменилась яростью.
— Сволочь! — крикнул кто-то. — Сукин сын! Ненавижу этих вшивых мерзавцев!
— А дальше? — шепнула Мона.
— Я хотела взять острый нож и…
Я торопливо ушла на кухню, чтобы не слышать, что она собиралась сделать ножом. Я сочувствовала этой женщине, но никогда не стала бы так откровенничать с теми, кого не видела раньше и вряд ли увижу еще. Фальшивые переживания!
Этель возглавляла семинар «Женщина и дело». Я знала, что домоводство и воспитание детей уже были ими обруганы и оклеветаны, и если я осмелюсь сказать что-то в защиту этих занятий, меня снова назовут «буржуйкой».
Я села и постаралась не слушать ничьих криков и рассуждений — ни любительниц секса, ни специалистов по валке деревьев. Я чувствовала, что чужда своим сестрам и совсем одинока. Но понимала: послушай я еще несколько минут откровения сестер Моны, тоже стала бы бить кулаками по полу и рыдать вместе с ними.
После обеда все отдыхали. Кто-то катался на санках, кто-то лепил снеговика под окном гостиной. Кто-то сидел, курил травку или потягивал вишневую наливку. Пара негромко пела, аккомпанируя себе на гитарах.
Вечером мы устроили танцы. Из Бостона приехал известный женский рок-ансамбль. Они установили в гостиной микрофоны, настроили инструменты и громко спели несколько песен начала шестидесятых. Никто не танцевал — словно девочки-подростки, ждущие, что мальчики наберутся храбрости и пригласят их на танец.
От разгоряченных тел стало жарко и душно. Лица блестели от пота. Женщины жадно пили наливку, как лимонад в летний день. Первой не выдержала Лаверна. Она величественным жестом сбросила блузку, выставив влекущую, влажную от пота грудь. За ней последовали остальные. Одетыми остались всего несколько женщин; казалось, гостиная так и блестит смуглыми, черными, белыми грудями, качающимися и трясущимися в такт громкой музыке.
Мы с Эдди прилегли на чей-то свернутый спальный мешок.
— По-моему, фестиваль удался. Как ты думаешь? — спросила я.
— Наверно. Только большинство все-таки уедет.
— Ну и отлично! Кстати, здесь всего две негритянки. Ни пуэрториканок, ни индианок. Какая же коммуна женщин третьего мира, если в ней нет женщин из этих стран?
— Это точно…
— Правда, я тоже индианка из племени черокезов. Частично.
Она повернулась.
— Серьезно? Почему ты никогда об этом не говорила? Стыдилась? Или что?
— Да нет, я об этом просто не думала. Похожа я на дядю Тома? — Я рассмеялась собственной шутке.
— Стесняешься, — хмуро заявила она. — Стесняешься своего происхождения! Это общество заставило тебя стыдиться своих предков! Ты считаешь индейцев гражданами второго сорта!
— Да нет же! Мне просто не казалось это очень важным. Моя прапрапрабабка была из племени черокезов. Значит, я на одну тридцать вторую — индианка. Важность какая!
— Важность какая?! Эта «случайность» повлияла на твой характер. Я никак не могла понять, почему ты такая — с такими-то родителями-буржуями! У тебя есть душа, Джинни. — Она страстно поцеловала меня. Я была в восторге, что моя родословная так ее обрадовала.
— А мой дед был шахтером, — прибавила я, желая преподнести ей еще один сюрприз. — Все мои кузены до сих пор живут в Аппалачах.
— Ты шутишь? — расцвела Эдди. — Ах, Джинни! Вот это подарок! Пошли танцевать! Я хочу обнять тебя!
Рок-ансамбль играл медленную песню «Очень давно, давно, давно»… Мы с Эдди прижались друг к другу, уткнулись губами в шею и топтались на месте. В воздухе витал дымок от марихуаны. Он напомнил мне смог от Халлспортского завода.
Лампы почти все были выключены. На лестнице кто-то упражнялся с вибратором Лаверны. Некоторые пары уединились в спальнях. Я облегченно вздохнула. Я не чувствовала себя одинокой, у меня было надежное убежище — Эдди Холзер.
Дверь резко распахнулась и ударилась в стену. В комнату с клубами морозного пара ворвалась дюжина огромных фигур в валенках, стеганых куртках и шлемах с забралами. Астронавты, только злые и не такие красивые… Музыка смолкла. Танцующие остановились и отпрянули друг от друга.
Водители «Сноу Кэт» выстроились у двери. Крошечные, почти невидимые за забралами глазки с вожделением смотрели на полуобнаженных женщин.
Мы, как стадо глупых овец, сбились в кучу. Один мужчина протянул руку и схватил первую попавшуюся женщину в низко спущенных джинсах. Она хотела выцарапать ему глаза, но ногти только скользнули по пластиковому шлему; хотела ударить, но он перехватил ее руку и потащил к двери. Мы хотели помочь ей, но темные фигуры сделали шаг вперед, и мы отступили.
У них на уме было одно: схватить нас, швырнуть в свои дьявольские машины и умчать в ночь. Я чуть не упала от страха, увидев, как ко мне шагнула одна фигура. Под забралом, да еще в полумраке, невозможно было рассмотреть лицо, но я готова была поклясться, что это Айра. Выражение его глаз не было злым, наоборот, в них читалась тоска. Мне стало жаль его, как Джульетте, смотрящей на Ромео, окруженного ее родственниками. Эдди выскочила вперед.
— Вы соображаете, что делаете? — крикнула она голосом, от которого завяли бы весенние цветы. Шум стих, строй вражеских фигур дрогнул. Рядом с Эдди встала Этель. Она многозначительно вытащила из кожаного футляра свой топор, провела лезвием по большому пальцу и безмятежно уставилась на привидения в шлемах, будто это были молодые деревца, которые нужно срубить.
— Вот из нашего дома и с нашей земли! — приказала Эдди таким тоном, будто под словом «наши» скрывалось по меньшей мере тридцать восемь процентов американцев-избирателей, а не несколько дюжин перепуганных женщин.
Строй замер. Наконец тот, кто шел ко мне — Айра, поднял забрало и робко сказал:
— Мы просто услышали музыку и решили составить вам компанию.
— Вас не приглашали, — отрезала Эдди. — Разворачивайте свои задницы и убирайтесь! — Она отвернулась и сделала знак рок-ансамблю. Оркестр мгновенно грянул «Великолепного мужчину».
Непрошеные гости скрылись за дверью. Эдди выскочила на крыльцо и торжествующе крикнула:
— И не возвращайтесь, пока вас не позовут. Чего никогда не будет!
Они угрюмо пошли к своим снегоходам. Я услышала, как кто-то крикнул: «Поганые шлюхи!» Проходя мимо голубоватой ледяной скульптуры, они поддали ее плечами и швырнули на снег.
На следующий день Эдди сочиняла приглашения тщательно отобранным кандидатам присоединиться к коллективу нашей фермы Свободы. Дойдя до слов о «третьем мире», она подняла голову и небрежно обронила:
— Моя подруга частично индианка из племени черокезов, а ее родители — из шахтеров с Аппалач.
— Неужели? — засмеялась преподавательница из Бостона.
Я бессовестно подбоченилась.
— А мой отец был пуэрториканцем, — безмятежно добавила Эдди. Я удивленно воззрилась на нее. Когда женщина вышла, Эдди примирительно объяснила:
— Откуда мне знать? Он вполне мог им быть.
В тот день нам не удалось обратить в свою веру многих, но семена сомнений мы все же посеяли и предложили сестрам с соседних ферм встретиться как-нибудь за кофе или партией в бридж и обменяться опытом.
После отъезда гостей мы навели порядок и отправились кататься на лыжах — все, кроме Лаверны, соскучившейся по своему вибратору.
После суматохи фестиваля разговаривать не хотелось. Мы молча ехали через луга и заснеженный лес, пробирались сквозь заросли тсуги и любовались зимними птицами и тусклым солнцем, просвечивающим насквозь облака и вершины деревьев.
— Как хорошо, что все уже позади! — не выдержала я. Все посмотрели на меня неодобрительно: снова я оказалась буржуйкой. — Но разве вы не находите, что было слишком шумно и скученно? И все эти тела нужно было накормить, уложить и черт знает что еще!
— Эти «тела», — скромно заметила Мона, — наши сестры.

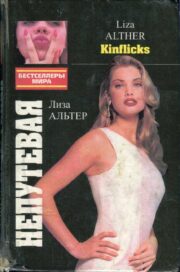
"Непутевая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Непутевая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Непутевая" друзьям в соцсетях.