— А я как топор плаваю, честно признаюсь. Зато в стихах не плаваю, нет. Не возьмусь утверждать, что вы не будете поэтом — подобных вещей никто не может сказать утвердительно! Но то, что это, — консультант пошлепал по синей папке с рукописью, — не поэма, увы, факт! Здесь и содержания-то строчек на шестнадцать от силы: он ее любит, она его нет, она попрыгунья, а он поэт. — Миниатюрные ладони умоляюще прижались к груди. — Поверьте человеку, много лет верой и правдой служащему литературе: поэма — один из труднейших жанров.
Кирилл не знал, где и чем служил литературе консультант, да это его и не интересовало. Значит, поэмы нет!
— Не думайте, я не педант и не брюзга, считающий, что котят надо топить, пока они слепые. Ведь как радуешься одной — хотя бы одной! — настоящей строчке, свежему поэтическому образу! А вы не мыслите образами, вот в чем все дело... Сейчас я вам покажу, какой перл я выудил из редакционного «самотека»... Это стихи о любви, о творчестве... Автор — начинающая поэтесса из Горького... — Он рылся среди бумаг на столе, затем стал выдвигать ящики один за другим, но, не найдя того, что искал, прочел по памяти; голос его дрожал, глаза блестели: — «Я как стрела, влюбленная в полет, я как пчела, расплавленная в мед...» Нет, не «расплавленная», там лучше было сказано, точней. — Он снова начал рыться в бумагах, потом шлепнул себя ладошкой по лбу. — Старческий склероз памяти: я же сам их вчера на машинку отправил... Прочтете в ноябрьской книжке журнала.
Кирилл поднялся, чтобы идти.
— В басне свои силы пробуйте, в газетном фельетоне! В фельетоне особенно перо острится, многие большие мастера с этого начинали. И не надо, батенька, сразу в толстый журнал. Есть журнальчики потоньше, есть многотиражная печать... Ну, желаю удачи! — Проводив автора до двери, консультант горячо пожал ему руку. — Ого, какая ладонища! Послушайте, давайте меняться: вы мне отдаете свое здоровье и возраст, а я вам — этот стол, книжки и все прочее. По рукам?
«Очень мне нужно твое консультантское место!» — решил про себя Кирилл, а вслух сказал:
— Подумаю...
— Не сердитесь, если что не так сказал... Знали бы вы, как меня в свое время Валерий Яковлевич Брюсов пушил — пух и перья летели!.. Будете проходить мимо Зиночки, секретарши нашей, попросите отметить, что забрали рукопись. У нас учет!
Пожилая секретарша, которую Кирилл перед тем уговаривал вручить поэму в руки главного редактора, спросила только: «Возврат?» — и сделала пометку в толстой книге регистрации. Слава богу, не узнала его!
— Простите, как фамилия консультанта, у которого я был? — решился он спросить ее.
Секретарша удивленно взглянула на молодого человека.
— Там же на двери написано! — И она назвала фамилию литератора, известную Кириллу еще из школьной хрестоматии.
А он-то невнимательно, с раздражением слушал его советы!
На лестнице Кирилл перелистал свою рукопись. На полях ее были бесчисленные пометки, вопросительные и восклицательные знаки, редкая строчка не подчеркнута одной или двумя чертами. До чего слабыми, вымученными казались ему слова, недавно рождавшиеся во вдохновенном нетерпений!.. Проходя мимо урны, он сунул в отверстие свое опозоренное детище.
Гриша пригласил Кирилла на открытие осенней выставки. Художник сам встречал друзей у входа в районный Дворец культуры, предоставивший свои залы работам молодых живописцев, графиков и ваятелей. В парадном костюме, с шевелюрой, до известной степени укрощенной бриллиантином, он выглядел именинником, словно открылась его персональная выставка.
— Да здравствуют поэты! — крикнул он, увидя Кирилла.
Молодого человека смутило громкое приветствие; несколько незнакомых людей, стоявших в очереди у гардероба, повернули головы в их сторону. Отведя художника в уголок, он попросил Гришу не величать его — хотя бы при посторонних — поэтом.
Гришу кто-то позвал.
— Встретимся в девятом зале, гвоздь выставки там! — И он рысью устремился по лестнице наверх.
Стоявшие у вешалки посетители уже передавали друг другу:
— Слыхали? В девятый зал надо идти!.. Там гвоздь!
Гул сдерживаемых голосов, шарканье подошв, восклицания и приветствия постоянных посетителей вернисажей наполняли залы. Газетных рецензентов можно было узнать по бесстрастным лицам и неизвестно где добытым каталогам, куда они вносили понятные им одним пометки. Молодые авторы — иногда это были люди с солидною лысиной, отцы семейств— потные, ошарашенные публичными весьма противоречивыми отзывами о своих работах, метались в поисках устроителей выставки: каждому автору казалось, что именно его картина повешена не там, где нужно, и освещена не так, как нужно. Зато их жены держались уверенно, словно они были авторами всех этих работ. Два старшеклассника украдкой посматривали на зеленоватый, под бронзу, торс пловчихи, надевавшей купальную шапочку. Моряки, организованно переходившие от картины к картине, как по команде, повернули голову в сторону хорошенькой посетительницы: натуру они явно предпочитали изображению.
Первые залы Кирилл миновал быстро, лишь мельком взглядывая на монументальные картины, изображавшие то плавку стали, то сцену проводов молодежи на целину, то момент подписания договора на соцсоревнование между бригадами. Иные полотна, еще пахнущие свежей краской, казались уже виденными. Утомляло великое множество густонаселенных картин, с добрым десятком старательно выписанных, словно сфотографированных на цветной пленке лиц, с огурцами и помидорами на столе столь натуральными, что хотелось протянуть руку и попробовать их, хотя для этого лучше было сходить в овощной магазин.
А жанр, еще недавно так несправедливо забытый! Стоило появиться и получить шумный успех таким вещам, как «Опять двойка» или «Прием в комсомол», — и в очередь выстраивались бесчисленные ремесленнические подражания им: «Единица в дневнике», «Исправил отметку», «На классном собрании», «Вызвали на бюро ВЛКСМ» и так далее. Отметили в прессе художника за то, что он взялся за изображение, скажем, семейного быта, и уже потянулась вереница ушедших и вернувшихся в семью мужей, становились в затылок плохие или, напротив, хорошие жены. А жюри, вместо того чтобы отвести работы, отображавшие не жизнь, а лишь копию изображения с нее, мирволили художникам.
Выгодно отличалась от подобных конъюнктурных поделок композиция, названная автором «Одна». Перед этой картиной все время толпились зрители, хотя висела она действительно неудобно, в простенке между окон. На полотне были изображены двое: молодая женщина сидела лицом к зрителям и смотрела прямо перед собой; во взгляде ее были тоска и безнадежность, руки безвольно легли на колени. В позе мужчины, обернувшегося к ней спиной, угадывалась скука, если не презрение. Быть может, он зевал, глядя с балкона на вечернюю улицу, или свистел — лица его не было видно... Что произошло между ними? Ждала ли она ребенка, от которого отказался ее охладевший возлюбленный? Томился ли он прискучившей покорностью женщины?.. Композиция вещи приковывала внимание, заставляла задумываться, а красное пятно женской фигуры на темно-синем фоне неба вызывало какое-то смутное, тревожное чувство. Отходя от полотна, зритель невольно уносил в памяти эти две фигуры, как бы олицетворяющие самое страшное на свете — одиночество.
А сколько мыслей вызывала скульптурная группа, изображавшая трех товарищей — не то экипаж боевого самолёта, не то советских танкистов, попавших в плен, не то рабочих, отказавшихся грузить вражеский эшелон! Смело, не мигая, смотрели двое в глаза врагу, лишь третий, тяжело раненный, а быть может, измученный нечеловеческими пытками, не мог смотреть: закрыв глаза, он уперся подбородком в литое плечо товарища, почти повис на нем. Люди, казалось, вросли в землю, как врастает в родную почву корнями могучий дуб. Таких не собьешь, не затопчешь, не уничтожишь, им, бессмертным, стоять в веках!
Рядом с такими работами «Московская весна» Гриши, висевшая в девятом зале, будто поблекла, казалась мельче по мысли, слабее по исполнению. Перед полотном толпилась группка спорщиков. Старик с бородкой клинышком не мог понять названия картины.
— Весну всегда изображают в виде девушки, — терпеливо объяснял юноша в лыжной куртке, обращаясь не столько к нему, сколько к девушке в зеленой вязаной кофточке. — А Москва?.. Во-он внизу памятник Пушкину!
Сделав вид, что он не слышал объяснения, старик продолжал:
— И эта решетка а-ля модерн? Непереваренный Бонар на советской почве!
— Попробуйте-ка найдите такое у ваших хваленых французов! — адресовалась студенческая куртка к жадно внимавшей девушке.
— Почему моих? — обиделась бородка клинышком. — Вас еще на свете не было, сударь мой, когда я поклонялся Сурикову и Репину, ловил каждое слово Владимира Васильевича Стасова.
Гриша, появившийся в зале с гурьбой родственников и знакомых, был доволен: у его картины толпятся люди, они спорят, значит вещь не оставила их равнодушными.
Гришина мать, маленькая, смуглая, седая старушка с поблекшим лицом, по которому можно было заключить, насколько красивее сына она была в молодости, близоруко щурилась и благодарила всех: «Спасибо! Спасибо вам!» Вдове скромного фармацевта, которую сын вызвал в Москву к открытию выставки, казалось невероятным, что Гришина работа висит в этом огромном зале, что столько людей любуются ею.
Отцу Кати, степенному, молчаливому печатнику в серой тройке, портрет дочери понравился. А ее мать сказала:
— Хороша, да непохожа! Не моя дочь, нет!
Напрасно покрасневший от смущения автор, теребя подразумеваемые усики — если бы усы были настоящими, несдобровать бы им в этот день! — доказывал, что дело не в сходстве. Он писал не портрет Кати, которую знают в лицо лишь родня да знакомые, а картину под названием «Московская весна».
— А по мне, хоть весна, хоть зима, лишь бы похожа была. Вот Зою Космодемьянскую я сразу признала, хоть и каменная... Ничего, Гриша, не кручинься, еще научишься!..

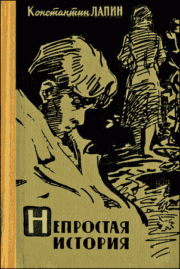
"Непростая история" отзывы
Отзывы читателей о книге "Непростая история". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Непростая история" друзьям в соцсетях.