— С черного хода.
— А я по пожарной лестнице. — Девушка не без гордости показала свои ладошки — они были в ржавчине.
— Она никогда не хвастается, она у меня скромная! — Художник шутливо щелкнул Катю по носу.
Они препирались между собой, как это бывает меж близкими людьми, знающими маленькие слабости друг друга.
А Лера все стояла перед холстом, на котором жила и дышала Пушкинская площадь. Для сравнения она посмотрела вниз, через край брандмауэра: солнце уже не освещало площадь, и в натуре все показалось серым и холодным, меж тем как на полотне слепил глаза яркий июльский полдень.
- У вас лучше, — признала девушка.
Подняв невероятный грохот, художник отбил лихую чечетку. Топнув ногой в последний раз, он объявил:
- Приглашаю уважаемое общество к столу!
Женщины двинулись вперед, за ними шел художник, держа на плече картину — так стекольщик держит свой ящик. Шествие замыкал Кирилл с мольбертом.
В длинной, мансардного типа комнате, освещавшейся через стеклянный фонарь в потолке, царил беспорядок. На обеденном столе рядом с хрустальными бокалами с недопитым кефиром возвышалась гипсовая голова Сократа, на которую кто-то нахлобучил соломенную шляпу, из расписного украинского кувшина с горлышком в виде лебединой шеи торчал веер кистей, тюбики белил лежали в пепельнице.
Гриша с ходу метким ударом загнал под кушетку выдавленный каблуком до отказа тюбик краплака.
— Простите за беспорядок; Катя только что пришла...
— Ты хочешь сказать, что держишь меня на положении приходящей домработницы? — возмутилась Катя. — Меня, которая весь месяц задерживается после смены, чтобы печатать твои литографии... Ну-ка, приблизься, несчастный!
Подойдя к ней, художник покорно нагнул голову, надеясь покорностью заслужить прощение. Но цепкие пальцы вцепились в его шевелюру, пригнули буйную голову к полу.
— Проси прощения! При всех проси!
— Прошу прощения! При всех прошу! — весело повторял Гриша, мотая головой. — Ай, Катька, знать, она сильна!.. Ой, больно! — неожиданно взвыл он. — Отпусти, чучела типографская!
Расчесав волосы растопыренной ладонью, Гриша заметил:
— Учись, поэт, как заставлять женщин работать на себя. Ни один парикмахер не может расчесать мою волосню, одних гребешков сколько было поломано, а Катька враз справляется...
Включив пылесос — последнее приобретение хозяина, предмет его особой гордости, Гриша принялся водить соплом по тахте, полу, даже по обеденному столу.
— Никак не могу Гришку к порядку приучить, — ворчала Катя, собирая со стола грязную посуду. — Привык жить в хлеву.
— Это хлев? — Художник выключил пылесос. — Можно подумать, что ты, Катерина, никогда не была на Сельскохозяйственной выставке. Там, голубушка, хлев кафелем выложен. А у меня что? Простая фанера... На тахту, дорогие гости, можете садиться без опаски, я уже обеспылил ее.
Тахта была всего-навсего матрацем, поставленным на четыре кирпича, зато ковер, покрывавший ее, был настоящий, его Гриша привез из командировки в Бухару. На полу были свалены грудой книги, сверху лежали те, которые иллюстрировал хозяин. На гвозде висели рапиры для фехтования, сетчатые маски были нахлобучены одна на другую. И всюду картины, эскизы, наброски. У окошка высилось полотно в полтора человеческих роста, закрытое простыней.
— Это новая вещь, — объяснил Кирилл Лере, как экскурсовод. — Гриша ее еще никому не показывал.
К ним подошел художник.
— А может быть, вас, Лера, музыка интересует? У меня найдется кое-что. От Пятой симфонии Чайковского до Вертинского.
— Спасибо, потом... Я еще не все разглядела...
— Тогда потопали в магазин, поэт!
Присматриваясь к картинам, Лера заметила, что один мотив, Пушкинская площадь, повторяется во многих вариациях.
— А зачем Гриша столько рисует один вид?
Катя, готовившая салат, подняла голову.
— Он вообще псих, я ему давно это говорю. Так хорошо нарисовал эту площадь, а все чего-то недоволен: не то да не так! Одно министерство заказало ему написать новый высотный дом, все наши надежды на этот заказ.
— Это? — Лера кивнула на большую раму у окна.
— Что вы, там я... — Катя зарделась от гордости. — Четвертый месяц позирую...
Вернулись мужчины со свертками в руках.
— Пельмени... Сосиски... Ветчина... — объявлял Гриша, разворачивая пакеты. — Довольны, Лера?
— Я буду довольна, когда вы вот это развернете! — И она кивнула на раму, покрытую простыней.
— Сие от меня не зависит. — Он показал на хлопочущую Катю, как бы заново представляя ее. — Хозяйка холста.
— О, женщины всегда сговорятся!.. Помочь вам, Катенька?
— Нет, нет, я сама...
Но когда нарезать хлеб предложил Кирилл, Катя тут же согласилась: он был свой человек в доме.
— А я тут без вас, Гриша, выясняла, почему вы без конца изображаете Пушкинскую площадь...
— Выяснили?
— Не до конца.
Художник показал на противоположную стену:
— Что вы видите перед собой, Лера?
— Стену. С видами Пушкинской площади.
— Вот-вот, вы уловили мою мысль... Из окошка моей квартиры видно «только улицы немножко». Вот я и пробил в стенах десяток дополнительных окон своими этюдами. Пусть мои дорогие гости любуются чудо-площадью во всех ее превращениях. Я могу часами наслаждаться ею, для меня она нечто живое и близкое, почти как человек, друг... — Увлекшись, он поделился с девушкой замыслом своей новой работы — «Поэты». — Московский рассвет, который «лучища выкалил»... Пушкинская площадь... В сквере, перед памятником, живой поэт... Ему не спится, он пришел перекинуться словечком со своим бронзовым собратом...
Рассказывал Гриша вдохновенно, он будто даже подрос на ее глазах и похорошел, несомненно. Лера слушала с восторгом.
— Очень интересно! — восклицала она. — Успех обеспечен.
— Только, чур, никому ни полслова! — насторожился он. — Особливо художникам. Это такой народ!..
— У меня, кроме вас, нет знакомых художников. Если считать, что я вас знаю... Гриша, а меня вы когда-нибудь нарисуете?
— Это еще надо заслужить, девушка! — Склонив голову, он смотрел на нее, словно оценивая. — Эх, если б я мог лица писать так свободно, как здания!..
Вошедшая с блюдом салата Катя слышала последнюю фразу.
— Что, что? А когда я сказала тебе то же самое, даже в более деликатной форме, ты как меня назвал?
— Не будем выяснять при гостях наши отношения! — объявил Гриша, подходя к столу. — Прошу всех садиться!
Он налил бокалы и только приготовился к тосту, как в дверь постучали. Художник беспокойно посмотрел на штору: Катя подняла ее, вернувшись с крыши, да так и забыла опустить.
— Твоя вина, Катька, ты и объясняйся! Кто бы ни был — меня нет дома... Эти черти художники летом не дают работать, прут один за другим, — шепотом объяснил он гостям. — Замечено также, что поток гостей увеличивается, если на столе выпивка.
Но когда в двери позади Кати показалась фигура старика, рисунки которого были известны всей стране по репродукциям, а совиный профиль — по карикатурам, Гриша, забыв все, что он говорил перед тем, бросился навстречу.
- Владимир Илларионович, дорогой, как вы вовремя! Мы только-только бокалы подняли.
— Ты знаешь, какой я питок, Гриша. — Старик тяжело опустился на тахту. — Я не помешаю твоим друзьям?
— Что вы? Здесь только свои... Поэта Кирилла Малышева вы у меня уже встречали. А это его прекрасная муза Лера.
Гриша любил старого мастера графики, который не чурался молодых, выставлял вместе с ними свои работы и неизменно поддерживал их, как член жюри бесчисленных выставок. В свое время старик был другом Маяковского, выпускал вместе с поэтом знаменитые плакаты РОСТА. У него хранилась книжка стихов Владимира Владимировича с авторской надписью: «Волу от Вола». Многие ли могли похвастать такой оценкой совместной работы!
Попыхивая короткой трубкой-носогрейкой, график прислушивался к разговорам за столом, посматривал по сторонам.
— На осеннюю выставку? — Он показал трубкой на картину под простыней.
— Блеснуть, что ль? — Гриша вопросительно взглянул на Катю, та едва заметно кивнула соглашаясь. — Разрешение получено... Эх, была не была! Только предупреждаю: вещь не закончена, прошу быть осторожнее с критикой!
— Трус несчастный! — Катя сдвигала стулья к стене.
Художник установил мольберт на середину комнаты и, отчаянно взмахнув рукой, сдернул простыню.
— Не отсвечивает? — спросил он беспокойно.
На полотне, опираясь на балконную решетку, стояла во весь рост девушка. Бровями ли, сросшимися на переносице, мальчишеским ли ртом была похожа она на Катю, и в то же время это была другая Катя — задумчивая, мечтательная, романтичная. За ее спиной жила Пушкинская площадь, катили машины, у столба с бело-голубой буквой «Т» выстроилась очередь на троллейбус, перед памятником Пушкину бегали дети. Естественно вписываясь в пейзаж, стояла эта простая, рабочая девушка, дочь и хозяйка своего большого города.
— При нормальном освещении вещь будет лучше смотреться, — заметил автор; у него даже уши налились краской от напряженного ожидания.
— А говорил, тебе портреты не даются! — Кирилл с чувством пожал руку друга. — Поздравляю!
— Чудесно! — воскликнула Лера. — Я завидую вам, Катя!
— Чему? — Катя вздохнула. — Попробовали бы вы постоять в одной и той же позе столько сеансов подряд.
Художник ждал, что скажет старый мастер.
— Не худо, не худо задумано, Григорий, хотя я убавил бы неба, а красный цвет дал бы больше в пространстве, — сказал Владимир Илларионович. — И с фигурой еще поколдовать надо, друг мой. Ты руки-то опусти ей, проверь...
— Чую, Владимир Илларионович, чего не договариваете, обязательно проверю. За рисунок вы меня всегда били.
— И буду бить, милый. Рисунок — основа основ. И тем не менее тост за тебя...
Но выпить и в этот раз не удалось — у двери кто-то пробасил:

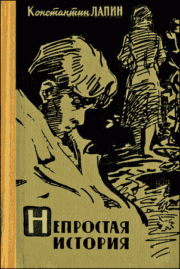
"Непростая история" отзывы
Отзывы читателей о книге "Непростая история". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Непростая история" друзьям в соцсетях.