Однако, пристальнее всматриваясь при свечах в его лицо, я уловил на нем явные признаки утомления. Повлияла ли здесь усталость от нашей долгой прогулки по садам или какая-либо другая причина? Не казался ли старый Бальдипьеро с виду крепче, чем он был на самом деле? Он уже находился в тех летах, когда сил остается лишь столько, сколько нужно для поддержания жизни; их может хватить еще надолго, если не требовать от них большего, чем то, что они могут дать. Говорили, будто сенатор неохотно мирился со своей старостью, и добавляли, что при случае он не прочь помолодеть, — более, чем это бы следовало, и, быть может, менее, чем ему самому бы этого хотелось.
Мало-помалу среди разговора он сам перешел к жалобам на то, о чем я уже подозревал. Он хвалил мое счастье и противопоставлял ему плачевность своей старости. При этом он проявил необычайную горечь. Впрочем, я слушал его довольно рассеянно, так как мне все это казалось естественной участью, на которую все мы обречены и более или менее скорое наступление которой должно побуждать нас пользоваться настоящим как можно лучше. Поэтому, пока он говорил, я продолжал пить дженцанское вино и лакомиться плодами. Негры принесли в плетеных серебряных корзинах прекраснейшие плоды, и я, отведав их, воспользовался случаем воздать честь гостеприимному хозяину. Он изысканно извинился, что неожиданность моего прибытия помешала ему предложить мне иные развлечения, кроме своих садов и стола, присоединив к ним лишь уединенную беседу с угрюмым стариком и не украсив трапезу гостями или хотя бы музыкой. Я отвечал ему, что не испытываю потребности ни в том, ни в другом, что пребывание с ним наедине мне очень приятно, если только мне не приходится упрекнуть себя за то, что я смутил его одиночество, и что я с большой радостью пользуюсь обстоятельствами, доставившими мне удовольствие беседы с ним. Он дал мне кончить, потом, покачивая головой, сказал, что моя любезность бесконечно для него лестна, и что он готов даже поверить, что в настоящую минуту я говорю правду, но что вскорости я стану думать по-иному, когда мне придется лечь в постель в полном одиночестве между двух простыней, что, конечно, плохое дело для молодого человека, в особенности для такого, который любит женщин.
При слове «женщина» я внезапно подумал, сам не знаю почему, о закрытом окне, которое незадолго перед тем занимало мои мысли. Я посмотрел на сенатора. Теперь мы были совсем одни в зеркальном зале. Прислуживавшие нам негры бесшумно скрылись. Мне казалось, что люстра тихо покачивается и ее сверкающее колыхание повторяется в зеркалах тысячью огней. Я много выпил дженцанского вина; очищая одну из тех сочных и красных пьенцских фиг, которые я так люблю, я слушал голос сенатора. Он доходил как будто издалека и, казалось, принадлежал не только ему одному, но и всем тем Бальдипьеро, которых я видел во множестве окружавших меня зеркал. Я испытывал удивление, в котором с трудом отдавал себе отчет и которое происходило, без сомнения, от странности сделанного мне в эту минуту предложения. Я внезапно услышал, что стоит мне только встать — и меня проведут в темную комнату с закрытыми ставнями, которая меня перед этим занимала! Там я застану в постели спящую женщину. Я должен был своей честью поручиться в том, что не стану разузнавать, кто она и откуда явилась. Меня предупредили, что я, наверное, встречу некоторое сопротивление, но, надо думать, окажусь настолько мужчиной, что сумею преодолеть его. Это имело основание: меня внезапно охватило неистовое желание. Я вскочил с места. Все Бальдипьеро, рассыпанные в зеркалах, поднялись одновременно со мной, но лишь один из них взял меня за руку и вышел вместе со мной из зеркального зала.
За его порогом, в пустынной вилле всюду было темно. Сенатор указывал мне путь. Мы поднялись по ступенькам лестницы. Длинный халат моего хозяина волочился по мраморным ступеням с мягким глухим шорохом. Мои каблуки стучали по ним. После множества поворотов мы остановились. Я услышал звон ключей. Один из них нащупал замок; дверь мягко подалась на смазанных петлях, и меня за плечи толкнули вперед.
Я очутился один в темноте, посреди глубокого молчания. Я прислушался. Мне показалось, что я слышу тихое размеренное дыхание. Воздух в темноте был жаркий и надушенный. Я подошел к невидимой спящей. Я был совсем близко от нее. Я протянул руку и дотронулся до обнаженной и нежной кожи, которая вздрогнула от моего прикосновения; моя другая рука скользнула наудачу, и я ощутил черты лица и теплый полуоткрытый рот.
То была странная, загадочная ночь; немая и яростная борьба. Ее тело выскальзывало и освобождалось из моих объятий с удивительной силой и гибкостью, и не было иного шума, кроме нашего сливающегося дыхания. Борьба длилась долго; затем силы незнакомки уступили, тело ослабело, руки упали, и одновременно разжались колени. Влажный пот покрывал ее живот, мокрые волосы прилипали к моей щеке. Я победил. Несколько часов я оставался сплетенным с этим телом. Я его осязал и дышал им, ничего не видя, прильнув щекой к неведомому лицу. Меня мучило бешеное желание узнать, каковы черты его, и бешеное сожаление при мысли о том, что я никогда не увижу его из-за глупой клятвы, — и мое темное желание вымещало это на теле женщины, безучастном и сладостном.
Я не знаю в точности, сколько времени прошло в этих ласках и в этих мыслях; наконец я вновь оказался у двери. Я толкнул ее плечом; она не поддавалась, как будто кто-то всей своей тяжестью налегал на нее снаружи. Я услышал за нею шорох ткани и легкие убегающие шаги. Я толкнул дверь снова. Она открылась. Я сделал несколько шагов за порогом. Раннее утро брезжило в конце коридора. Я готов был вернуться в комнату, чтобы удовлетворить свое любопытство. Мне припомнилась данная мною клятва; я пустился бежать и вскоре достиг лестницы. Передняя была пуста. Я прошел под колоннадой. Воздух был напоен утренним благоуханием апельсинных деревьев. Моя карета, уже запряженная, ждала меня во дворе. Я сел в нее и, как только она тронулась в путь, погрузился в глубокий сон.
Разнообразие путешествия отвлекло меня мало-помалу от мечтательности, в которую я погружался, вспоминая об этом странном приключении. Я не знал, что о нем подумать, и оно казалось мне необъяснимым. Кто была эта неведомая, безмолвная женщина? Что означало странное поведение сенатора Бальдипьеро? Оказался ли я орудием его злобы или мстительности? Быть может, он просто хотел доставить мне удовольствие и, чтобы увеличить его, окружил таинственностью? В конце концов, он слыл немного чудаком, и я сам был склонен считать его таким. Я терялся в догадках.
Я приехал в Милан. Мое пребывание в этом городе затянулось. Я посещал там игорные дома и вращался в лучшем обществе. Несколько женщин отметили меня, в особенности одна из них, ради которой я оставался там больше месяца, так как она часто предоставляла мне приятные случаи видеть ее то в театре, то на прогулке, то у себя в доме. Она принимала меня ночью, при свечах, и нисколько не скрывала от меня своего лица и тела. Это ослабило воспоминание о моей незнакомке, так что я почти совершенно забыл о ней, когда направился во Францию.
В Париже я нашел, что удовольствия этого прекрасного города своим изобилием и утонченностью превосходят все самое лучшее, что только можно себе вообразить. Мой день весь состоял из различных развлечений. То были концерты, балы, комедия. Письма сенатора Бальдипьеро оказались для меня чрезвычайно полезными и доставили мне знакомство со многими значительными лицами. Водоворот, в котором я жил, мешал мне сожалеть о Венеции и о моих друзьях. Впрочем, они и сами, казалось, забыли обо мне, даже и ты, Лоренцо, подобно другим. Так прошло около года.
У меня была тогда любовница, девица Перонваль. Она была маленькая, живая и восхитительно танцевала. Я последовал за нею в Лондон, куда ее увлекло ремесло и куда она повезла меня с собой для удовольствия; но она слишком открыто пожелала доставлять его и милорду Брукболлу, чтобы мое чувство могло с этим примириться. Мы расстались. Возвратясь, я нашел у себя толстый пакет, прибывший из Италии. В нем было длинное письмо сенатора Бальдипьеро. Он писал мне о различных вещах, напоминал мне о дженцанском вине и пьенцских фигах и сообщал о том, как закончилось приключение, в которое — он в этом очень извинялся — ему пришлось замешать меня, хотя и таким способом, что это могло доставить мне только одно удовольствие. Я должен был составить себе о нем очень странное мнение, ибо не вполне обычно уступать свое место и отстраняться в пользу другого.
«Увы, мой дорогой племянник, — писал мне сенатор, — когда-нибудь вы изведаете сами печали старости. Я недостаточно учел свои годы, когда тайно и с бесконечными трудностями похитил из места, где она жим, эту прекрасную девушку, лица которой вы не видели. Она находилась у меня уже боже двух недель, и я ни разу не оказался в состоянии обойтись с ней, как требовала необходимость. Отсюда то дурное состояние духа, в котором вы меня застали. Ваш вид еще более способствовал моему раздражению. Как я завидовал вашей юности! Тогда-то и задумал я свой ночной план. Когда вы сели за стол в зеркальном зале, я твердо решил открыть для вас потайную комнату, где помещалась моя прекрасная пленница. Этим я хотел ей показать, что все же я, по меньшей мере, являюсь владыкой ее судьбы. Я надеялся также на то, что желание обладать ее телом скорее пройдет во мне при мысли о счастливом сопернике. Не раз уже мысль, что любимой женщиной обладает другой, отвращала меня от нее. Почувствовать, что возлюбленная тебе неверна, часто бывает хорошим лекарством от любви, и я ожидал от своей выдумки целительного облегчения, которое вам ничего не стоило мне доставить.
Вот почему втолкнул я вас за плечи в эту темную комнату; но, побуждаемый каким-то любопытством, я приложил ухо к двери… Я слушал вашу борьбу, объятия, вздохи, молчание; потом борьба началась снова, и я услышал глухое волнение и невидимый шум. О, неожиданность! Ужасающая ревность стала терзать мою старую плоть, пробудившуюся от своего оцепенения. Я уже двадцать раз готов был войти, и если, когда вы толкнули дверь, я убежал по коридору, то это потому, что я не мог бы вынести вашего вида без искушения убить вас, о чем я сожалел бы впоследствии, так как я обязан вам большим благодеянием. Ревность вызывает удивительные последствия, и она возвратила мне силы прежних лет, которыми я и воспользовался в тот же вечер.

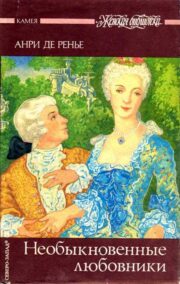
"Необыкновенные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Необыкновенные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Необыкновенные любовники" друзьям в соцсетях.