Что касается г-на Вирлона, то он взял сторону девицы де Ла Томасьер, ибо видел в ее поступке перст провидения. Вступление в число божьих девственниц такой решительной и пылкой души будет большим благом для монастыря. Правда, монахини там примерны по своему послушанию и добродетели, но им недостает пламенности. Девица де Ла Томасьер принесет туда святую заразу, потому что пламенность передается как огонь, который есть образ ее. Г-н Вирлон уже сравнивал девицу де Ла Томасьер с горящей головней, падающей среди сухого дерева. «Монастырь, — часто повторял он, — создан не для того, чтобы отшлифовывать благочестие. Он создан, чтобы рождать святых».
Но если в Куржё и говорили о девице де Ла Томасьер, то также занимались и г-ном де Валангленом. Все приходившие к нему находили его дверь запертой. Это послужило предлогом утверждать, что он наполовину сошел с ума и подавлен до отчаяния столь жестоким и неожиданным событием. Некоторые приписывали ему, помимо печали о девице де Ла Томасьер, также сожаление о тех богатствах, которые она должна была ему принести: не то чтобы его собственные средства были умеренны, но каждый предполагал, что у него было законное желание увеличить их путем этого брака, и такое соображение тем более казалось всем правдоподобным, что почти каждый разделил бы его, если бы попал в сходное положение.
Истина заключалась в том, что г-н де Валанглен после этого происшествия ощущал упорную тоску, которую время не ослабляло. Скорее наоборот. В самом деле, по свойству нашей природы мы склонны то, чего больше нет и что могло бы быть, видеть в благоприятном свете; поэтому г-н де Валанглен с живостью представлял себе то, что было им утрачено; никогда еще не нравилась ему девица де Ла Томасьер столь сильно, как теперь, когда он чувствовал, насколько бесполезно желать ее. Толстая стена монастыря, вместо того чтобы скрыть от него перспективу прошлого, заставляла видеть его яснее, как бы сквозь кристалл, увеличивающий его ценность и делающий его более живым.
Надо полагать, что он действительно страдал, потому что по истечении нескольких недель он появился с таким изменившимся и печальным лицом, что никто не рисковал с ним заговаривать. И раньше часто не решались на это, потому что он всегда бывал довольно порывистым и резким, хотя при случае бывал вежливым и даже услужливым. Впрочем, он вообще выходил из дому только в сумерки, для короткой прогулки, всегда одной и той же, которую он совершал медленными шагами вдоль высокой стены монастыря «Божьи Девственницы». В течение примерно часа, запрятав нос в плащ — потому что зима уже наступила, — г-н де Валанглен стучал каблуками по замерзшей и гулкой земле. В лунные вечера он задерживался там дольше, следя, как тает свет ее ущербленного полумесяца на стене, или как она тихо восходит над стеною, круглая и белая, подобно облатке причастия.
За исключением этого, г-н де Валанглен оставался дома. Слуги слышали, как в поздний час ночи он шагал взад и вперед по дощатому полу своей комнаты, то молча, то испуская шумные проклятия, а утром они находили свечу догоревшей до самого ободка подсвечника. Иногда он спускался в конюшни. Проход между крупами лошадей, разгоряченных их необычайным отдыхом, был небезопасен. Г-н де Валанглен был хороший наездник и держал для личного пользования лошадей лучшего качества. Он отважно и умело объезжал их, так как служил некогда офицером королевской кавалерии. От этой службы он сохранил пристрастие к лошадям и оружию. Множество сортов оружия было развешено у него по стенам: шпаги, пистолеты, мушкеты; он меланхолически поглядывал на них, думая о том, что если бы он, как прежде, находился во главе своего эскадрона, ему ничего бы не стоило быстро овладеть воротами монастыря. Он уже видел, как он гарцует на коне по плитам монастырского двора среди перепуганных монахинь, как хватает поперек тела девицу де Ла Томасьер, кладет ее позади себя на круп коня и уносится с ней галопом, невзирая на ее нагрудник, монашеский чепец и крестные знамения. Но времена переменились. Крепкие засовы и толстые стены хранили беглянку в безопасности. И г-н де Валанглен горько упрекал себя за то, что ничего не предпринял по отношению к девице де Ла Томасьер, кроме словесных убеждений, а также — что не добился от нее раньше некоторых вольностей, которые делают брак необходимым и вследствие которых она не могла бы, как это было ею сделано, ускользнуть от простого обещания; он сильно сожалел о своей неуместной сдержанности, в которой ему теперь приходилось раскаиваться.
В Куржё уже постепенно начали забывать о г-не де Валанглене, как вдруг в один прекрасный день, около полудня, подъезд его особняка внезапно распахнулся, и увидели, как он выходит в сопровождении двух лакеев. Тотчас же все головы высунулись из окон, глядевших на площадь. Зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть. Г-н де Валанглен вскочил на одного из своих коней. Едва очутившись на свободе, резвый конь принялся бешено рваться и вставать на дыбы. Он бил копытами по мостовой и делал опасные скачки. Все ждали, что г-н де Валанглен упадет и разобьется, но он смирил коня и исчез за поворотом улицы, не без того, чтобы г-жа Люсиль, лавочница, сказала г-же Бабу, своей соседке, что г-н де Валанглен выглядит весьма видным мужчиной и что девица де Ла Томасьер поступила очень глупо, отказавшись от такого мужа.
Однако г-н де Валанглен покинул свой городской дом вовсе не для того, чтобы заставить всех подивиться на свое искусство наездника, а чтобы вернуться в свой замок Болиньон и до конца провести там зиму в еще более строгом одиночестве. В тот же вечер это стало известным в Куржё, и отмечено было, что г-н де Валанглен удачно выбрал место, подходящее к его ипохондрии. Она могла свободно находить себе пищу в этом уединенном обиталище среди лесов, в четырех с лишним милях за Жиске, где жил г-н д'Эгизи. Было замечено также, что г-н де Валанглен уехал, ни с кем не простившись, даже с г-жой де Ла Томасьер, здоровье которой было неважно и начало страдать от слишком обильных обедов, которым она предавалась с чрезмерной последовательностью и свободой.
Такое поведение г-на де Валанглена подверглось довольно суровому осуждению. В глубине души каждый был недоволен тем, что он обходился без чужой помощи и хранил свою скорбь про себя, никому ее не поверяя, — до такой степени в сострадании и жалости, которое мы испытываем к несчастью, всегда содержится доля любопытства к тому, как страдающий переносит свое горе, а также тайная мысль, что в подобном положении мы перенесли бы его лучше. Ибо в человеке все — тщеславие. А кроме того, нам кажется, что мы имеем права на своего ближнего и что есть нечто высокомерное в желании страдать про себя и на свой лад.
Эту вину г-на де Валанглена все живо чувствовали в Куржё. После того как он раньше замкнулся у себя, теперь г-н де Валанглен вовсе ускользнул, с явным намерением бежать от всех утешений. Поэтому все твердо решили оставить его, сколько ему захочется, в его одиночестве и не подвергать себя тяготам плохих дорог из желания повидать человека, который по собственному желанию удалился от себе подобных, как если бы их общество было ему не только бесполезно, но даже докучливо и ненавистно. Итак, его не станут теперь преследовать в глубине принадлежащих ему лесов, которые должны были выглядеть в это время года очень оголенными и очень мрачными, потому что была уже середина января. Г-н де Валанглен мог предвидеть то, что ждало его в Болиньоне, по резкому ветру, не перестававшему дуть ему в лицо во время пути, но он мало обращал на это внимания, тщательно следя, чтобы конь его не сворачивал в сторону, как будто хотел посредством этого упражнения образно показать, что он решил впредь наложить узду на увлечения своего ума и сердца.
Г-н де Валанглен ежедневно приказывал оседлать одного из своих коней и совершал на нем длинные прогулки в окрестностях. Он возвращался только к вечеру с тяжелой головой, потому что в усталости своего коня искал только усталости собственной. Она помогала тому рассеянию мыслей, которое приходит на свежем воздухе, и г-н де Валанглен старался найти в движении средство от своей меланхолии. Вид замка мало способствовал ее удалению. Одиночество чувствуется полнее в огромном жилище, чем в маленьком. Оно увеличивается от окружающей нас пустоты и возрастает от широкого вокруг нас пространства. Болиньон в этом отношении не оставлял желать лучшего. Единственной оживленной и теплой частью его были конюшни. Г-н де Валанглен пополнял их многочисленными приобретениями. Он отдавал предпочтение резвым и норовистым животным. Ему доставляло удовольствие объезжать их, рискуя сломать себе шею, так что слуги, видя его садящимся на коня, ждали каждый раз, что он уже не вернется.
Г-н де Валанглен провел уже порядочно времени в этих одиноких развлечениях. Однажды, когда он вернулся с такой прогулки, ему сообщили, что г-н д'Эгизи приезжал посетить его. На песке двора еще можно было заметить следы от колес его кареты. Г-н де Валанглен был весьма удивлен этим посещением, вспоминал о нем день или два, а затем перестал думать и продолжал свои верховые прогулки. Они были не совсем обыкновенны, ибо он возвращался из них с покрасневшими шпорами. Он искалечил при этом несколько лошадей; он требовал от них всего, что только возможно. Он пускал их в бешеный галоп, и они несли его наудачу через поля, если только он не заставлял их перескакивать самые высокие изгороди и самые глубокие рвы, как будто ему хотелось поочередно то достигнуть, то избежать чего-то такого, с чем он не мог ни соединиться, ни разделиться и что дразнило вызовом его икры и дыхание его коня. Иногда он даже пускался вскачь наудалую, закрыв глаза, словно для того, чтобы увеличить наслаждение опасностью, которой себя подвергал. И вот однажды, отдавшись вслепую продолжительному галопу, он, совершенно не ожидая этого, очутился во дворе замка Жиске, в двух шагах от г-на д'Эгизи, который вежливо приветствовал его и, приняв это невольное прибытие за ответный визит, предложил ему зайти в дом, чтобы передохнуть минутку. Г-н де Валанглен принял предложение и соскочил со своего выбившегося из сил коня.

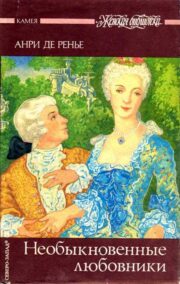
"Необыкновенные любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Необыкновенные любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Необыкновенные любовники" друзьям в соцсетях.