— Ра — наш владыка, — объявил Рахотеп. — Он создатель всего сущего, начало всех начал. Он — богиня Бастет[64], хранительница Верхнего и Нижнего Египтов, и восхваляющие его пребудут под его защитой. Он — богиня Сехмет для тех, кто не повинуется его воле. Он — бог Птах[65]. И отныне он — повелитель Верхнего и Нижнего Египта, Рамсес Второй и Рамсес Великий.
Храм взорвался приветственными криками. Рамсес спустился с возвышения; жрецы пели так громко, что никто не услышал, как фараон прошептал мне:
— Если бы не мое обещание…
На глазах у всех фараон поцеловал Аменхе и взял нашего сына на руки, словно говоря: «Аменхе — будущий царь Египта». Царица Туйя взглядом пыталась остановить сына, но Рамсес высоко поднял мальчика, показывая придворным.
Молодые танцовщицы захлопали трещотками из слоновой кости. Рахотеп многозначительно посмотрел на Хенуттауи.
Я схватила Мерит за руку. Она тоже заметила взгляд жреца. Мерит не спускала глаз с моих сыновей. Любую еду, которую подавали кормилицам, сначала непременно пробовали.
Рамсес протянул мне руку, но я не двинулась с места.
— Иди с фараоном, — шепнула мне в ухо Мерит. — Ничего не случится.
— Но Рахотеп…
Мерит подтолкнула меня.
— Я буду начеку!
Во дворе храма ждал народ — посмотреть, кого посадит Рамсес в свою колесницу. В храме он поднял перед всем двором Аменхе, а теперь, перед ликующей толпой, протянул руку мне. Я затаила дыхание в страхе, что народ сейчас замолчит, но приветственные крики стали еще громче. С целой процессией золотых колесниц мы ехали по городу, и Рамсес, улыбаясь, повернулся ко мне.
— Ты смогла завоевать их сердца, Нефертари. Ты и вправду царица-воительница.
Глава двадцать четвертая
СПРАВА ОТ ФАРАОНА
В тронном зале фараон по-прежнему сидел в короне немес. За последние три месяца он ничуть не изменился, хотя правил теперь всем Египтом. А вот дворец в Малькате со дня коронации изменился сильно. Со стен поснимали красные коврики, изо всех ниш убрали статуи и уложили в деревянные сундуки — для перевозки в Пер-Рамсес. По дворцу сновали слуги с тяжелыми тростниковыми корзинами, наполненными всевозможными предметами роскоши, которых, наверное, нет в Аварисе. Поскольку во дворце царила суета, в этот день мало кто осмелился прийти с прошением в тронный зал. Когда появился Ахмос, Пасер, заранее зная, каков будет мой ответ на просьбу хабиру, просто махнул ему, чтобы уходил.
— Ты неудачно выбрал время, Ахмос, — сказала я. — Двор завтра уезжает.
— Вот и хабиру хорошо бы уйти, — заявил он. — Зачем мучить их переездом в Аварис?
— Воинам мучиться не придется, — смеясь, ответила я. — Они поплывут по реке с флотом фараона.
— Так не все хабиру служат в войске. Некоторым придется продать свои запасы зерна и нанять лодки.
— Но и берегов Ханаана хабиру без лодок не достигнут.
— Они могут и пешком дойти.
— Хабиру не уйдут! — вскричала я громче, чем хотела. — С севера приходят донесения о приближении хеттских войск. Если они опять возьмут Кадеш, начнется война. Понадобится каждый воин. Подожди, пока наступит месяц тот.
— Я хочу знать, когда фараон освободит хабиру!
У Ахмоса сверкнули глаза. Он стукнул посохом об пол, и стражники двинулись к нему. Я жестом велела им остановиться.
Рамсес отвлекся от разговора с Пасером.
— Моя супруга сказала верно. Войско полностью отправится в Аварис. — Своим тоном он дал понять, что разговор окончен, и тихо спросил у меня: — К чему ты тратишь на него время?
Вечером мы с Мерит отправились в бани, и няня задала мне тот же вопрос.
— Моя мать страдала так же, как эти хабиру, — ответила я. — Но если царь Муваталли двинется на Кадеш, Египту может не хватить воинов, чтобы его остановить. А если Кадеш падет, настанет очередь Авариса. Потом Мемфиса, потом Фив…
Мерит покачала головой. Мы шли по выложенной плитами дорожке, ведущей к баням.
— Если фараон узнает, что ты обдумывала такую возможность… — начала она, но я жестом остановила ее.
— Тихо!
Неподалеку кто-то плакал. Я вопросительно посмотрела на Мерит.
— Это там, — прошептала она.
Мы тихонько подошли к входу во внутренний двор. За толстым стволом сикомора я разглядела знакомые очертания фигуры Исет, а рядом с ней — молодого мужчину. Они стояли так, что больше никто не мог их увидеть. Исет была к нам спиной.
— Ты можешь приходить каждое утро, — жалобно говорила она. — Ты ведь живописец и скульптор, Ашаи. Скажем всем, что ты делаешь мое изваяние. Никто и не узнает…
— Не нужно было мне приходить. — Хабиру отступил назад. — Раньше я тебя любил, но теперь люблю свою жену. Она родила мне двоих детей. И вообще — звать меня сюда… Ты подвергаешь опасности мою жизнь.
Тут, наверное, Ашаи заметил в нашей стороне движение, потому что через миг исчез.
Исет повернулась и, увидев меня и Мерит, в ужасе закрыла руками рот. Она опустилась на колени — прямо на цветы, которые окаймляли ведущую к ее покоям дорожку.
— Ты расскажешь Рамсесу? — прошептала она, опуская голову.
— Нет. Он не узнает твоей тайны, — тихо сказала я.
Мерит в удивлении уставилась на меня.
— Госпожа!
Исет глядела на меня снизу вверх, прищурившись.
— А чего ты потребуешь за молчание?
— Только люди вроде Хенуттауи требуют за все платы.
Позже, в своих покоях, я рассказала о случившемся Уосерит и Пасеру.
— Они спрятались за сикомором, и если бы мы шли другим путем, то ни за что бы их не заметили.
— Супруги фараона не должно касаться даже подозрение, — мрачно проговорила Уосерит. — Если Рамсес узнает…
— Он не узнает. Я пообещала ее не выдавать.
Уосерит и Пасер воззрились на меня, но я решительно покачала головой.
— Хенуттауи и так устроила ей невыносимую жизнь. Ашаи сказал, что больше не придет. Разве Рамсесу будет приятно все это слушать?
— Но ведь Исет предала его!
— Ради любви. Моя мать ради любви предала свою семью. Меня бы не было на свете, если бы она не предпочла полководца Нахтмина обязательствам перед сестрой.
— Перед сестрой, но не перед супругом! — воскликнула Уосерит. — Она не давала сестре клятву верности перед лицом Амона.
Уосерит говорила правду: у Исет дело обстояло иначе. Однако теперь, когда пришло время и в моей власти было ее уничтожить, у меня не хватило духу.
На следующее утро все жители Фив, так или иначе связанные с двором, отправились в путь. Я даже красилась сама и с балкона смотрела, как со двора выезжают тысячи повозок, груженных мешками, сундуками, оружием. Те, у кого хватало средств, нанимали лодки. Крестьяне несли в хранилища корзины с обмолоченным зерном, писцы выдавали им плату из казны, и счастливцы покупали на медные дебены места на кораблях для своих семей.
Я крепко обняла Рамсеса, и мы вместе глядели на это людское море.
— Мы поступаем не так, как Эхнатон и Нефертити, — сказал Рамсес. — Мы не строим город в пустыне, чтобы прославить свои имена. Мы переезжаем в Аварис, чтобы лучше защитить Египет. — Он посмотрел на меня и улыбнулся. — Знаешь, какие покои я велел строителям отделать в первую очередь? Твои. Их устроили рядом с моими и нарисовали на стенах сцены из Малькаты.
Никто в жизни так обо мне не заботился. Я приложила руку к сердцу. Рамсес понял, что я лишилась дара речи, и стал целовать меня — в губы, в щеки, в шею.
— Неферт, Малькату построили твои акху. Здесь жила твоя мать. Я не хочу, чтобы сегодня, покидая дворец, ты грустила.
Я положила ладони на его мускулистую грудь и провела ими вниз, до живота и еще ниже. Рамсес поднял меня на руки и внес с балкона в комнату — но оказалось, слуги уже убрали кровать!
Рядом с жаровней лежала на полу овечья шкура — легкая, белая и мягкая.
— Прямо как ты, — шепнул Рамсес, укладывая меня.
Он опустился рядом со мной на колени и стал целовать мои плечи, груди, опускаясь к бедрам. Внизу живота я всегда умащала себя жасминовым маслом, и фараон жадно вдыхал манящий аромат. Мы лежали в пустой комнате на теплой овечьей шкуре и любили друг друга, а потом Мерит изо всех сил заколотила в дверь, и стало невозможно притворяться, что мы не слышим.
Мне захотелось взглянуть в последний раз на фруктовый сад. Ветки деревьев лежали на особых подпорках; мне иногда казалось, что сажала этот сад моя мать. Она очень любила разводить цветы, но теперь никак не узнать, что именно в саду вырастила она. Я обещала Рамсесу, что покину Малькату без грусти, но поняла, что ошибалась. Через четыре месяца, в день поминовения Уаг, негде будет воскурять благовония для ка моей матушки — она останется одна в заупокойном храме Хоремхеба, окруженная тьмой, забытая.
Сзади подошел Рамсес.
— Мы еще вернемся.
— По этим залам ходила моя мать, — сказала я. — Иногда, стоя на балконе, я думаю: быть может, она видела то же самое, что вижу я.
— Мы построим для нее храм, — пообещал Рамсес, — и ее будут помнить. Я теперь фараон всего Египта.
— Эхнатон тоже был фараоном всего Египта…
Рамсес обнял меня за плечи.
— Отныне твоя семья — это я, Аменхе и Немеф. Народ видел мою победу в Нубии и Кадеше, видел нашу победу над шардана. Боги нас хранят. Они нас знают.
После полудня мы отплыли целой флотилией — больше ста кораблей. Я стояла на палубе, глядя на удаляющуюся Малькату. Лучший корабль Рамсеса нагрузили сундуками и тяжелой мебелью из дворца. Из каюты выглядывали эбеновые статуи богов, которым тоже как будто не терпелось поскорее добраться до Авариса. Свободного места почти не осталось, так что плывшие с нами придворные сидели под пологом — ходить им было негде.

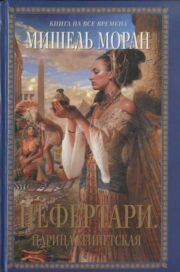
"Нефертари. Царица египетская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нефертари. Царица египетская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нефертари. Царица египетская" друзьям в соцсетях.