В общем, если в мире существуют нормальные сексуальные отношения, то это как раз наши отношения с Кариной. Хотя смотря что считать нормой. Например, она, по непонятной мне причине, приучила меня к легкому доминированию. Нет-нет, никаких связываний и по́рок, просто психологическая игра, даже не на грани фола. Просто она всегда дает мне понять, что отдается мне, отдается целиком и полностью. И от этого наша любовь становится только крепче.
Забавно, но мы с ней не говорим о любви. Совсем. То есть я не могу вспомнить, чтобы признавался ей в своих чувствах, и она тоже о своих чувствах никогда не говорит. За нас говорят наши действия, наши поступки, взгляды, жесты. Какая-то молчаливая любовь, вполне соответствующая моему и ее характеру.
Так вот, в конце зимы Карина все-таки перебралась ко мне жить. Мы как-то незаметно стали чем-то вроде семьи: совместно выбирались за покупками, вместе вели хозяйство, немного обставили квартиру. За всеми этими хлопотами я чувствовал какой-то странный, но очень приятный уют в душе. И очень надеялся порадовать свою Золушку внезапной поездкой в город, о котором она мечтала.
Я совершил ошибку в том, что решил сделать это для нее сюрпризом. Вообще говоря, в любой ситуации следует ставить себя на место другого человека. Если бы мне сказали кругом-бегом делать что-то такое, что бы мне, возможно, и хотелось, но к чему я был не готов – я, наверно, тоже не обрадовался наверняка. С чего же я решил, что это понравится Карине?
Если бы я сказал ей об этой поездке заранее, все сложилось бы по-другому. Во-первых, какое-то время она жила бы в предвкушении чуда, а это предвкушение иногда даже слаще самого чуда – по себе знаю. Во-вторых, она бы подготовилась и ехала бы с другим настроением, а так…
Нет, Карина старалась ничем не выдать плохое расположение духа. Последнее время она вообще не включала при мне «режим Снежной королевы», но порой ее льдистый взгляд и отрешенность проступали сквозь милые черты Золушки. В Париж со мной летела именно Снежная королева, только притворяющаяся своей домашней ипостасью. И, конечно, полюбить Париж таким, как мы его увидели, она не могла.
Вообще, говорят, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, но при этом почему-то считают, что для любви не нужно никаких усилий – дескать, любовь сама приходит, когда ее совсем не ждешь. Да, приходит она сама, не спрашивая разрешения. Садится, как жар-птица на перила балкона. Но если не поймать ее, не удержать, обжигая пальцы о пламенеющие перья, – от нее только воспоминания останутся и ожоги, в лучшем случае – на сетчатке, но чаще – на сердце.
– Сегодня наша последняя ночь в Париже, – напомнил я Карине. – Завтра мы улетаем.
Она вздохнула:
– Ты, наверно, сердишься на меня?
– За что? – удивился я.
Она протянула руку и коснулась пальцами моей руки.
– Ты так хотел меня порадовать, – сказала она. – Не думай, что я это не оценила.
Я перехватил ее пальцы, слегка сжав:
– Ну что ты… мне просто хочется, чтобы тебе было хорошо.
Я хотел бы сказать, что мне хочется дарить ей радость. Воплощать ее мечты, исполнять ее желания. Видеть, как в глазах ее Золушки вспыхивает свет счастья. Наверно, нам чаще надо говорить то, что думаешь. От наших слов, от того, как и когда они сказаны, зависит так много. Словом можно поразить, а можно залечить раны.
И ты не знаешь, не можешь знать, успеешь ли высказать то, что необходимо. Будущее не принадлежит нам, и что скрывается в его темноводье, не знает ни одна живая душа. Потому если в душу приходят хорошие, правильные слова – спешите высказать их. Потом может быть поздно…
– Я знаю, – тихо ответила она. – Для меня это очень важно. Просто я хочу, чтобы ты знал – мне очень с тобой хорошо. Я счастлива, что случай свел нас. И если даже я раздражаюсь, то не на тебя, понимаешь?
– Я знаю, – сказал я. Мне казалось, я действительно знал это.
– Просто… – Она отодвинула руку, захватила пальцами с авторским маникюром, нежно-розовым с серебряными стразами, салфетку и скомкала ее, словно собираясь сделать оригами. – Я, наверно, неправильная. Я должна бы излучать восторг, глядя на всю эту красоту, но меня отвлекает шум в зале, меня раздражает суета и многолюдство, мельтешение официантов и громогласность арабов… черт, я думала, хоть здесь нет чурок!
– В Париже? – уточнил я.
– В ресторане, – ответила она. – Блин, и я когда-то еще считала, что в Москве много нацменов! Да по сравнению с Парижем Москва – это… это…
Она не смогла подобрать сравнение. Я же понимал, о чем она. В дорогом и людном ресторане «Жюль Верн» европейцев можно было легко по пальцам пересчитать. Здесь присутствовали японцы, китайцы, индусы, были арабы и негры, а из европейцев оказались только мы и еще одна компания за большим восьмиместным столом с видом на Елисейские Поля – судя по доносившимся до меня обрывкам фраз, то ли поляки, то ли украинцы, или, может, белорусы.
Я национализмом и расизмом не страдаю. В Сети, где я провожу большую часть времени, нет никакой разницы, какой национальности или расы твой собеседник. Свои впечатления из Сети я переношу и в реал, потому спокойно отношусь к любому человеку, будь он хоть австралийский абориген (которых, правда, я в жизни еще не встречал). Но мне понятна реакция Карины, раньше снимавшей квартиру в районе, где в каждом подъезде хрущевки есть своя резиновая квартира, а то и не одна; тем более – после позавчерашнего инцидента. Признаться, мне самому было чертовски страшно – если бы моя бравада не сработала, мне бы пришлось драться одному с несколькими арабами, которые к тому же к дракам с детства привычны, в отличие от меня – я кулаки последний раз в ход пускал лет пять назад.
Наверно, в основе любой нашей «нетолерантности» лежат объективные причины. И для того чтобы преодолеть предубеждения, усилия надо прилагать с обеих сторон, и со стороны «угнетенных», наверно, даже большие. Не требовать себе место под солнцем, а демонстрировать миру свое дружелюбие. В Париже, да и во всей Европе, победил прямо противоположный подход, и «угнетенные меньшинства» сами стали угнетать других. Но преодолеть любой конфликт можно только путем взаимных уступок. Если же одна сторона получает больше за счет другой – это только растягивает пружину конфликта, и когда-то эта пружина еще ударит, и очень, очень больно…
– О чем ты думаешь? – спросила Карина.
– Ты не поверишь, – ответил я. – О политике.
Я откинулся на стуле и посмотрел на Карину. Она, в свою очередь, задумчиво смотрела на меня, непроизвольно покручивая пальцами ножку бокала.
– Наверно, это странно, – сказал я. – Мы в самом сердце самого романтичного города на земле…
Карина слегка кашлянула. Я понимал, что она имеет в виду: назвать современный нам Париж романтичным можно было только от большой любви к этому городу.
– …и к тому же в компании самой прекрасной из женщин, – продолжил я. Карина смущенно отвела взгляд. Она почему-то очень смущалась от моих комплиментов и даже просила не говорить такого, но тут я оказался непреклонен, и ей пришлось смириться с моими дифирамбами в ее честь. Наверно, это была не самая неприятная капитуляция в истории, как мне кажется. И вообще, я не понимаю, как можно любить и не проявлять своего восхищения тем, кого любишь. Восхищение – это дыхание любви, это ее пульс.
– …а я думаю о столь прозаичных вещах… – продолжил я. – Что поделать? Я так хотел исполнить твою мечту…
– Ты ее исполнил, – тихо сказала она. – Не твоя вина, что мечта оказалась не такой, как мне представлялось. Именно это я и пытаюсь тебе сказать.
Она протянула руку и коснулась моего запястья. Черт, им стоило бы сделать столики поуже, некстати подумал я. Тоже мне интимная обстановка, для того чтобы проделать эту операцию, Карине пришлось наклониться вперед и даже чуть привстать. Впрочем, нет худа без добра: вырез ее коктейльного платья при этом довольно щедро открыл вид на ее прекрасную грудь.
Мой внутренний циник заметил, что это очень странно – несмотря на то что в интимных вещах у нас, кажется, уже не осталось никаких секретов, этот вид меня волновал, вполне по-мужски. Впрочем, уже не так, как раньше, то есть по-другому. Я знал, что сегодня ночью смогу ласкать эту грудь, и мое воображение возбуждалось скорее предвкушением этого, чем чем-то еще.
– Наши мечты не всегда оказываются тем, что мы ожидаем, – сказала она, понизив голос, будто это был какой-то секрет, – и совершенно не важно почему. Может, дело даже в нас самих. Конечно, я порой чувствую себя здесь как ребенок, который увидел обгоревшие развалины Диснейленда. Но…
Она замолчала, а я представил себе обгоревший Диснейленд, почему-то под завесой тумана, вроде того, какой бывает в фильмах ужасов. Периодически образность мышления Карины меня восхищала – как та кошечка-осень из самого первого прочитанного мной поста.
– Но даже развалины Диснейленда могут быть прекрасны, а, при должной фантазии, заброшенные аттракционы столь же увлекательны, как и открытые. Особенно если учесть то, как меня раздражают клоуны и ряженые аниматоры.
Карина улыбнулась… я видел на витрине книжного, в который мы заходили еще в Москве, на Новом Арбате, книгу «Пятьдесят оттенков серого». Не знаю, о чем эта книга, и, если честно, мне трудно представить увлекательный роман с таким названием, но с тех пор я стал замечать оттенки буквально во всем. И у улыбки Карины этих оттенков насчитывалось многим больше, чем пятьдесят. Она была одновременно робкой и вместе с тем… отважной, что ли, потому что именно отвага нужна для того, чтобы выразить мнение, отличное от мнения окружающих. Карина действительно оказалась «не такой», не похожей на других, и иногда я даже думал – уж не это ли и заставило меня ее полюбить? Что такое красота, что такое привлекательность? Может ли массовое, штампованное, одинаковое быть привлекательным? До Карины мне, честно говоря, становилось скучно с женщинами уже на втором-третьем свидании. Кажется, это было взаимно – ни с кем из тех, с кем я встречался до нее, я не расходился со скандалом, но ни к кому не желал вернуться, и никто не желал вернуться ко мне.

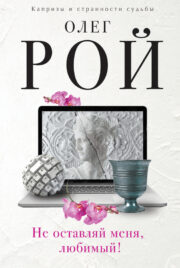
"Не оставляй меня, любимый!" отзывы
Отзывы читателей о книге "Не оставляй меня, любимый!". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Не оставляй меня, любимый!" друзьям в соцсетях.