– И я тоже, я тоже, Софи… Там нынче такая метель… Да… Сейчас на лестнице, едва ли не у дверей квартиры встретил гусеобразного субъекта совершенно судейского, крючкотвористого вида. Решил, что ко мне, что-нибудь по поводу имения или налогов, и даже остановился, давая ему возможность обратиться. Однако, так и простоял, как дурак…
– Это нотариус, Пьер. Он приходил ко мне. Представляешь, Анна Сергеевна умерла от пневмонии!
– Анна Сергеевна?
– Ну, это светское имя Саджун, подруги Туманова. Помнишь, я рассказывала тебе?
– Ах, Саджун… – Петр Николаевич нахмурился. Его высокий, с небольшими залысинами лоб собрался в широкие светлые морщины. – Что ж, мне жаль. Она, кажется, была еще не очень старая женщина… Но почему крючкотворец приходил к тебе? Она оставила в твой адрес какие-то распоряжения?
– Да, Пьер, – Софи на мгновение опустила глаза, но тут же снова вздернула подбородок, и во взгляде ее мелькнул совершенно вроде бы неуместный по обстоятельствам вызов. – Саджун завещала мне свое заведение вместе со всем имуществом.
– Как?! Тебе? Но это же невозможно!
– Возможно и соответствующим образом оформлено.
– Откажись! Откажись немедля!
– Я подумаю об этом, Пьер, – медленно и тяжело сказала Софи, темным взглядом утопая в светлых, растерянных глазах мужа.
– О чем тут думать?!
– Особнячок почти в центре Петербурга недешево стоит. Восточный стиль интерьеров внутри… Я помню, там много всего интересного и ценного. И, в конце концов, люди, которые целиком и полностью зависели от Саджун…
– Софи! Опомнись! Ты собираешься принять участие в судьбе проституток?! Не довольно ли тебе уже… Дети… Сколько лет… – Петр Николаевич все более волновался и от волнения прогрессивно терял дар речи.
– Дети! – глаза Софи вдруг расширились до просто-таки жутковатого, явно нездорового состояния. – Как же я могла забыть! Джонни! Как же он?!.. Эй! Эй! Постойте! – Софи, ломая ногти об запоры, распахнула дверь, и, как была, в платье и атласных туфельках, выбежала на лестницу. – Эй! Как вас там?… Пафнутий Мефодьевич!.. Мефодий Ильич!.. Илья Акакиевич! Да стойте же вы!..
Петр Николаевич прошел к окну в первую из анфилады комнат, нервно стащил-таки с рук перчатки и швырнул их на широкий, низкий подоконник. Сверху, со второго этажа, ему было хорошо видно, как Софи выскочила из парадной, пробежала, утопая по щиколотку, по глубокому снегу (февральская метель наметала быстрее, чем дворник успевал убрать), выбежала за чугунные, решетчатые ворота и буквально за руку схватила нотариуса, уже садящегося в сани. Облаченный в шубу графин ошеломленно смотрел на раздетую женщину, вертел пробкой в разные стороны, бросал отчаянные взгляды на дворника, словно ожидая от него помощи, явно предполагал нехорошее и пытался вырваться.
– Послушайте, я должна вас спросить, Акакий Мефодьевич!
– Илья Пафнутьевич, к вашим услугам.
– Простите, Илья Пафнутьевич. У Саджун остался сын, мальчик Джонни. Он… он болен. Что сейчас с ним?
– А… этот идиот… но вы же простудитесь, Софья Павловна! Я должен немедленно…
– Прекратите! Что с Джонни?!
– Он же совсем невменяемый, этот урод, вы же знаете, наверное. С ним пытались говорить, но он никого не подпускает, ревет, брыкается…
– Джонни боится и совсем не переносит мужчин. Его так растили. Из соображений безопасности. Где он?
– Там же пока. В заведении. Сидит в комнате, где умерла мать, с одной из девок. Она как-то его кормит. В ближайшее время, я думаю, будет принято соответствующее решение и его заберут в дом призрения для подобных ему уродов. Прости, Господи, за грехи наши! – нотариус мелко перекрестился несколько раз, как будто бы опасаясь побега мелкого зверька у себя из-за пазухи.
Не прощаясь, Софи отвернулась от Ильи Пафнутьевича и побежала назад, стараясь наступать в свои же, уже протоптанные следы. Нотариус и дородный дворник с номерной бляхой на груди провожали ее ошеломленными взглядами.
– Вот напасть-то! – пробормотал Илья Пафнутьевич и, подумав еще, довольно усмехнулся. Сегодня ему будет что рассказать Савелию Сидоровичу!
– Я еду туда! – с порога заявила Софи. – Фрося, подай мне пальто и капор.
– Куда?! Погоди, Софи! Ты что, внезапно сошла с ума? – возмутился возвратившийся в прихожую Петр Николаевич. – После этой твоей выходки тебе, чтобы не заболеть, нужно немедленно принять горячую ванну и лечь в постель. Ты никуда не поедешь!
– Да-а? – Софи, чуть прищурившись, взглянула на мужа.
Он опустил глаза. Никогда, никогда за все почти уже десять лет супружеской жизни Петр Николаевич не решался отчетливо и до конца проговорить себе, что значит этот взгляд и это «да-а?» в ответ на его пожелания, просьбы, приказы… «Я сам и мое мнение совершенно ничего для нее не значат… Нет! Об этом думать нельзя! Иначе…»
– Погоди, Пьер, не злись, я сейчас объясню, пока одеваюсь… Фрося, ну давай же, не тяни кота за хвост!.. Джонни десять лет. Он сын Саджун. Он болен от рождения, это называется Дауна болезнь. У него слабоумие, это так, но Саджун много с ним занималась, он может говорить, понимать, и любить тоже может и хочет. Ему сейчас так плохо и страшно, что и вообразить нельзя. Он же, наверное, даже не понимает, что произошло. Ему никто не объяснил, потому что с ним говорить можно только тогда, когда он не боится. Меня Джонни знает, я сумею его успокоить. Саджун оставила мне все, значит, она полагала, что я позабочусь о Джонни…
– Господи! – прошептал Петр Николаевич, обхватывая голову ладонями. – А отец? У этого Джонни есть отец?
– Нет. Его отец… Его отец был иностранцем. Он уехал из России и… и умер. Так что у Джонни теперь никого нет, кроме меня…
– Софи! Что это значит? Ты и вправду обезумела? Что ты говоришь? Ты хочешь немедленно поехать в публичный дом и забрать оттуда полоумного урода, оставшегося сиротой? А что дальше, позволь узнать?
– А дальше я отвезу его в Люблино, найму ему няньку из тамошних крестьян. И будет жить, сколько проживет. Доктор сказал Саджун, что у Джонни больное сердце, да и вообще эти дети долго не живут. К сожалению.
– К сожалению?! – вскричал Петр Николаевич, окончательно выведенный из себя абсурдностью ситуации.
По сравнению с намерением жены немедленно усыновить слабоумного ребенка, которого он никогда не видел, новость с наследством как-то сама собой отошла на второй план, но никуда при этом не исчезла…
– Софи…
– Я поехала, Пьер. Жди меня здесь. Если можешь, извести Викентьева и второго, нового управляющего с фабрики, что у меня изменились обстоятельства и я уезжаю в Люблино. Хорошо было бы, если б мне удалось переговорить с ними до отъезда… И… не волнуйся. Ничего страшного не произошло… Ты увидишь, несмотря ни на что Джонни вполне можно полюбить. Он очень привязчивый…
– Софи, я еду с тобой! – решительно сказал Петр Николаевич, снова одеваясь. – Ты не поедешь туда одна!
– Очень хорошо, твоя поддержка может мне понадобиться, – Софи, уже одетая, привстала на цыпочки и поцеловала мужа в висок. – Я знала, что ты поймешь. Ты – чудесный. Я обожаю тебя…
– Но что скажет матушка? – спросил Петр Николаевич, когда супруги уже погрузились в стоящую на полозьях карету и прикрыли ноги одной меховой полостью на двоих. – Вряд ли она…
– О, да! – согласилась Софи, улыбнувшись краешком губ. – Мария Симеоновна молчать не станет! Что-то меня ждет…
В просторной гостиной добротного и славно отремонтированного помещичьего дома разыгрывалась хорошо известная немая сцена из гоголевской комедии «Ревизор».
После слов Софи: «Я привезла вам Джонни. Он будет здесь жить.» – все присутствующие молчали как бы уже не пять минут.
В процессе того дородная старуха в темно синем шлафроке медленно опустилась в кресло, однако не бессильно и расслабленно, в глубь и обиженную истому, а присела на краешек, как бы собирая в комок гнев и ярость для последующей атаки.
Высокий, толстый и вообще очень крупный для своих лет мальчик недовольно хмурился. Его малорослая в сравнении с ним и субтильная сестра быстро-быстро моргала круглыми, светлыми глазами.
Петр Николаевич стоял у входа в гостиную с независимым видом, скрестив руки на груди и словно говоря: «А я тут, знаете ли, ну совершенно не при чем!»
Одна из двух присутствующих в комнате служанок растерянно крестилась. Другая держала в руках поднос с напитками. Руки девушки мелко дрожали и фужеры однообразно и раздражающе, как-то по-комариному звенели. Прилизанный лакей пожилого гостя Марии Симеоновны застыл у стола чурбан-чурбаном, да так и стоял, раскрыв рот. Сам гость, стараясь остаться или хоть казаться невозмутимым, набивал трубку.
Софи, струной вытянувшись во весь свой немаленький рост, стояла посреди гостиной, спиной прижимая к себе очень странного (и это мягко сказать!) ребенка. Свои руки она положила мальчику на плечи, и, если бы кто его спросил, он мог бы удостоверить, что руки эти совершенно не дрожат. На обычно подвижном лице Софи застыло безмерно удивляющее всех присутствующих выражение угрюмого и какого-то окончательного покоя.
Ребенок, которого Софи представила домашним как Джонни, выглядел действительно престранно, если не сказать устрашающе. Очень маленького роста (куда меньше младшей его девочки), с короткими ногами и руками, толстым задом и уродливой, сужающейся к темени головой. Рот его был полуоткрыт, как будто бы чрезмерно крупный язык не помещался в нем. Глазки, напротив, были маленькими, узенькими и близко посаженными. Переносица широкая и слегка вдавленная внутрь. Жиденькие каштановые волосики стояли дыбом. Самым, пожалуй, ужасающим оставалось то, что это существо, несмотря на не закрывающийся рот и дрожащие (от ужаса?) губы, явно пыталось мило улыбнуться присутствующим, обнажая плохие зубы.
– Господи, да что же это?! – не выдержала наконец одна из служанок.
– Мама, это дурная шутка, – низким, но звучным голосом сказал мальчик. – Отвези этого урода обратно, туда, где ты его взяла.

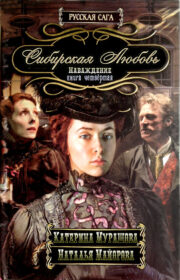
"Наваждение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.