Теперь же горизонт стал чист и ясен – их ждали процветание и покой. Все произошло так быстро, что Ханна не поняла, как, собственно, это случилось. Она и не старалась понять. Она довольствовалась тем, что Мэри с Альбертом все понимают, а сама сосредоточила усилия на том, чтобы наслаждаться нежданной удачей.
Все это она объяснила на приеме баронессе Понтальба. Баронесса нашла счастье Ханны безмерно скучным как тему беседы. «Надо было пригласить эту Мэри», – мимоходом подумала она и заговорила с другим гостем, начисто забыв самое имя – Мэри Макалистер.
Но спустя всего неделю ей вновь пришлось услышать это имя, и на сей раз она обратила внимание. В гостях у нее был Вальмон Сен-Бревэн. Варка сахара закончилась, и Вальмон приехал в город, чтобы отдать должное светскому сезону.
– Я так несказанно добродетелен, дорогая баронесса, что первым делом отправился позировать для вашего проклятого портрета. И, представьте себе, повстречал там проворную мадемуазель Макалистер! Да знаете ли вы, какая хитрая киска приютилась у вас под крышей? Ей всегда удается процветать. И продвигаться вверх в этом мире. Сначала она была одной из девочек в лучшем борделе города. Затем кем-то вроде почетной дочери у Берты Куртенэ. А сейчас, похоже, стала владелицей чрезвычайно элегантной модной лавки. Я ею восхищаюсь.
На Микаэлу это тоже произвело впечатление. Теперь ей определенно хотелось познакомиться с самой Мэри. Авантюристки никогда не бывают скучны.
А внизу Мэри возилась с витриной. Оформление витрины было выразительным и простым до аскетизма: на возвышении лежала длинная розовая атласная перчатка, в пальцах которой красовался полураскрытый веер из черного кружева с блестками. Сделать лучше было невозможно. Напротив, возня Мэри грозила уничтожить хрупкую соразмерность композиции.
Однако, если она пробудет у витрины подольше, ей удастся увидеть Вальмона, когда тот будет выходить. Мельком – на большее она не смела рассчитывать.
Движения ее обычно ловких рук, прикасавшихся к мягким складкам атласа и кружев, были резки и неуклюжи, поскольку она сердилась. Сердилась на себя.
«Как же ты могла выставить себя такой дурой, Мэри Макалистер? Когда ты пришла в студию Альберта и увидела его, почему ты не ушла сразу? Или уж поздоровалась бы, как подобает воспитанному человеку, и ушла сразу после этого. Зачем тебе понадобилось болтать, как ненормальной, выставлять себя напоказ, будто ты клоун, и пытаться произвести на него впечатление всякими глупостями о новых эскизах и заказах, которые надо выполнить? Кем ты хотела себя выставить? Мадам Альфанд? Баронессой?
Или тебе хотелось под любым предлогом остаться там подольше, полюбоваться, как красиво лежат его волосы, подобные черному блестящему шлему, как привлекательны под бровями его глаза, как он вытягивает длинные проворные ноги, как он опускает вниз уголки рта за мгновение перед тем, как поднять их в улыбке, по которой видно, что он понимает, какое представление ты перед ним разыгрываешь, торча где не следует, только бы увидеть эту улыбку?
Неужели ты не можешь владеть собой? Обязательно надо все испортить вконец, выставить себя в самом нелепом виде?
Разве нельзя оставить в покое витрину и заняться чем-нибудь другим? Ведь у тебя тысяча неотложных дел».
Мэри опрокинула композицию и в отчаянии посмотрела на нее.
«Нет, не могу, – ответила она себе. – Не могу. Я несправедлива, ведь он появился так внезапно, без всякого предупреждения. Если бы я знала, что он в студии, если бы я была готова, то мое сердце не стало бы рваться из груди и мое глупое, безнадежное стремление видеть его не возродилось бы. Ведь я уже пересилила его, уже излечилась, словно от болезни. А сейчас оно стало еще сильней. Я даже не в силах заставить себя сделать три маленьких шажка прочь от витрины. Не могу».
Она подняла подставку с перчаткой и веер и попыталась расположить их в витрине так, как было первоначально.
«Я не сумею разложить их так, как они лежали».
От расстройства она чуть не расплакалась.
На улице возле витрины появились две женщины средних лет и остановились, созерцая усилия Мэри. Сказав что-то друг другу, они зашли внутрь.
– Сколько стоит этот веер, мадемуазель? – спросила одна из них. – У вас есть такой же, только другого цвета?
– Это ведь здесь платья шьет жена художника? – спросила вторая. – Не покажете ли нам образцы?
Мэри благодарно улыбнулась им. Они спасали ее от глупого наваждения, против которого сама она была бессильна. Сердце перестало беспорядочно колотиться, разум прекратил бесплодные и несвязные самообвинения. Она вновь могла владеть собой. Почти могла. Она бросила последний взгляд в витрину. Платье, которое она сшила для Ханны, сделало свое дело. Перед ней стояли дамы-креолки, несомненно белые и очень респектабельные. Новые клиенты начали находить дорогу к заведению Ринков.
Покинув апартаменты Микаэлы де Понтальба, Вэл заглянул в витрину магазинчика. Мэри он не увидел, и она не увидела его. Она стояла на коленях за прилавком, вытаскивая очередную коробку с веером для показа новым покупательницам. На прилавке уже лежало восемнадцать вееров. Каждый из них подвергся тщательному осмотру и обсуждению, после чего был отвергнут.
Вэл отвернулся и легким шагом удалился. Было приятно вернуться в город. Сахар его уже стоял на молу в бочонках, дожидаясь погрузки. Теперь можно было и повеселиться. Ему предстояло перебрать груду приглашений, которая дожидалась его в отеле, и выбрать бал, ужин или прием, на который он пойдет вечером. А может быть, сразу и на бал, и на ужин, и на прием? А пока нужно нанести визиты примерно десятку пожилых тетушек, дядюшек и кузенов. Прежде всего долг, а развлечения – потом. Ноги несли его по кирпичному тротуару в быстром темпе риля. «Да, – решил он. – Определенно на бал». Ему хотелось музыки, танцев, шампанского. Нужно встраиваться в ритм старого квартала.
Уже третий сезон он проводил в Новом Орлеане после возвращения из Парижа, но его все еще поражала та головокружительная жажда удовольствий, которой был заражен старый город. Начиная с несколько чинного открытия сезона в опере в начале октября, празднества текли бесконечной чередой, нарастающей лавиной музыки, еды, питья, танцев и увеселений всевозможного рода. Короткий перерыв, связанный с благоговейной встречей Рождества Христова, лишь способствовал новому приливу энергии, и веселье возобновлялось с еще большим размахом, становясь все более лихорадочным, несдержанным, гедонистическим – пока настоящая вспышка безумия не охватывала весь город. Называлась она Марди-гра.[23]
– Некоторые так наслаждаются собственным обществом, что никого вокруг упорно не желают видеть, – раздался женский голос слева от Вэла.
Он резко обернулся. Мимо в противоположном направлении проходила Мари Лаво. Он развернулся и догнал ее.
– Извини, Мари. Я замечтался.
– Мне нельзя останавливаться, – сказала Мари. – И ты иди, куда шел. Вечером приходи на бал квартеронок, я там буду.
– Ну, не знаю… – Вэл начал придумывать оправдание, но выслушать его было некому – Мари уже исчезла в воротах дома, перед которым он стоял.
Вэл стоял на тротуаре, озадаченно глядя на ворота и пребывая в полном изумлении. Обращаться к нему в людном месте было вовсе не в привычках Мари. Оба понимали, что дружба между белым мужчиной и царицей вуду вызовет большие подозрения и в его, и в ее кругу. Но почему она говорила с ним в приказном тоне, словно он один из ее поклонников? И зачем велела ему явиться на бал квартеронок? Он был там всего однажды, сразу после приезда из Парижа, и ушел в полном омерзении. Мари прекрасно знала об этом. Он сам ей говорил.
Вэл нахмурился, повернулся и пошел по направлению к дому тетушки. Ноги его уже не танцевали. Странное поведение Мари встревожило его. Надо будет при следующей встрече сделать ей внушение. Уж он постарается оказаться возле ее дома на неделе. А подчиняться ее приказам он не собирается. Царица там или не царица, а на бал квартеронок он не пойдет.
Глава 35
Мэри задержалась в лавке дольше обычного. Она пообещала Сесиль Дюлак закончить платье сегодня, а креольские дамы отняли у нее почти три часа. И при этом ничего не купили. За несколько минут до восьми она пришила к подолу последний шелковый цветочный лепесток и, аккуратно уложив платье в коробку, надела шаль и чепец. По пути домой нужно занести коробку на Рэмпарт-стрит. Возможно, Сесиль угостит ее ужином. За весь день она наспех проглотила кофе с пирожком и теперь чувствовала себя голодной и усталой. Она потерла руки, чтобы снять судорогу в пальцах.
Миновав перекресток Ройал и Тулуз-стрит, Мэри услышала музыку, доносящуюся из отеля «Сен-Луи». Музыканты настраивали инструменты перед балом, который должен был вот-вот начаться. «Я ни разу не была на балу», – подумала она и почувствовала себя Золушкой, только без волшебницы крестной. За все часы, что она провела, трудясь над бальными платьями и продавая роскошные аксессуары для вечерних нарядов, Мэри ни разу не испытала жалости к себе. А теперь жалость волнами накатывала на нее. Ей захотелось, чтобы коробка с великолепным платьем принадлежала ей самой; хотелось оказаться там, где много света, музыки и смеха; забраться в теплый экипаж с мягкой обивкой, который промчал бы ее по грязным улицам, не оставив на ней ни пятнышка. Захотелось быть отмытой, надушенной, великолепно причесанной, одетой в роскошное бальное платье. И протанцевать всю ночь в объятиях Вальмона Сен-Бревэна.
Горничная взяла у Мэри коробку, сказав, что мадемуазель Сесиль принимает ванну. Перекусить она не предложила.
Мэри побрела по Рэмпарт-стрит до Кэнал-стрит и дальше, к остановке конки на Бэррон-стрит. Конки не было. Движимая каким-то извращенным желанием вызвать к себе еще большую жалость, она прошла еще три квартала, пока не оказалась перед отелем «Сент-Чарльз» – громадным американским конкурентом «Сен-Луи», расположенного во французском квартале. Здесь тоже звучала бальная музыка. Мэри наблюдала, как подъезжают кареты, из которых выходят мужчины и женщины в вечерних туалетах и заходят в здание отеля, оживленно переговариваясь в предвкушении удовольствий.

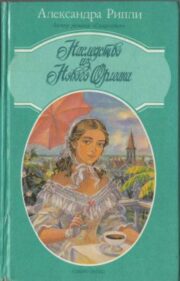
"Наследство из Нового Орлеана" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследство из Нового Орлеана". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследство из Нового Орлеана" друзьям в соцсетях.