Никто никогда ничего не узнает. Эта глупая американка сгниет в Монфлери с этой идиоткой Бертой, которая выезжает в город только раз в год. Их так легко обвести вокруг пальца, они и рады плясать под мою дудку. Идиотки».
Она прикрыла рот рукой. Не надо смеяться вслух. Никто не должен догадываться о ее счастье, ее торжестве. Наконец-то она одержала верх над своей сестрой, получив ее ящичек и убрав с дороги ее дочь. Это было так приятно, еще приятнее после стольких лет ожидания! «Господь послал мне эту месть», – подумала она и, несмотря на руку, зажимавшую рот, издала резкий, ястребиный крик.
Отняв руку ото рта, она проговорила вслух:
– Это мое, и никто его никогда у меня не отберет. Я ни перед чем не остановлюсь, лишь бы сберечь это. Ни перед чем.
Глава 15
– Они уехали, и стало так тихо, – сказала Мэри. – Жаль, что они не побыли подольше.
– А мне не жаль. Они мешали работам на валу. Из-за всех этих променадов и пикников мы ничего не успели сделать. – Филипп был явно не в духе.
Мэри молча пила кофе. Со стола еще не убрали откидные доски. Взглянув на огромную поверхность полированного дерева она почувствовала себя маленькой и одинокой. И ненужной. Обустройство семейного досуга оказалось нелегким делом, даже под руководством Клементины. Зато было весело. А сейчас она маялась от безделья.
Она посмотрела на Филиппа. Ей очень хотелось спросить его, знает ли он, когда ожидать возвращения Жанны с матерью из Батон-Ружа.
Но он читал газету. Да и скорее всего, он ничего не знает. Надо было спросить об этом Grandpère. Но тот вышел из-за стола, едва начался завтрак. Он очень спешил осмотреть поля – ночью прошла гроза с градом.
«Каждому есть чем заняться. Кроме меня». Она еще раз украдкой посмотрела на Филиппа. На его подбородке вырос крошечный треугольник щетины, пропущенный бритвой. Мэри подумала: «Интересно, какой он на ощупь?» При этой мысли у нее защипало в кончиках пальцев.
«Что со мною происходит? Откуда эти странные мысли?» Ей все время снились сны, но ни одного из них она не могла припомнить. Однажды она проснулась от того, что ее ладони крепко стиснули груди. Хотя кокетство кузин казалось ей нелепым, она попыталась перед зеркалом помахать веером, как они. В конце концов она бросила это занятие, в полной уверенности, что выглядит чрезвычайно глупо.
«Я нравлюсь Филиппу, я точно знаю, – про себя сказала Мэри, – только не знаю, до какой степени. Хочет ли он поцеловать меня? И понравится ли мне это?» Она вновь метнула на него быстрый взгляд. Рот у него был пухлый, как и все прочее. Прикосновение его губ будет мягким. Она потрогала пальцами собственные губы, словно проверяя, достаточно ли они мягкие. Губы были пересохшие, потрескавшиеся. Надо будет их чем-нибудь смазать.
– Мэри. – От звука голоса Филиппа она вздрогнула. Уж не догадался ли он, о чем она думает? – Мэри, перестань витать в облаках. Я с тобой говорю.
– Так говори, я слушаю. В чем дело? – Она не могла взглянуть на него.
– Я еду на сахароварню. Хочешь со мной? Ты, похоже, очень скучаешь.
– С превеликим удовольствием. – Беспокойные мысли испарились, едва появилась возможность чем-то заняться. – Я сбегаю наверх, надену костюм для езды. Буду через несколько минут, очень скоро.
– Не спеши. Я покурю на конюшне.
У Мэри больше не было времени на бесплодные и мучительные раздумья. Grandpère разрешил Филиппу показать ей плантацию, и теперь каждый день стал для нее источником новых ощущений и сведений.
Если она и грезила, то сама того не осознавала. Сахароварня находилась на дальнем конце плантации. Чтобы добраться до нее, Филипп и Мэри ехали по улице между хижин рабов и через поля тростника.
Филипп кивнул группе темнокожих стариков и старух, которые сидели в креслах-качалках в тени большого, поросшего мхом дуба прямо посреди улицы.
– А эти проклятые аболиционисты еще утверждают, что черные заживут полной жизнью, получив свободу, – сказал он Мэри. Голос его напоминал ворчание злой собаки. – Эти рабы многие годы пальцем не шевельнули, но их все равно кормят, лечат, одевают. На свободе они просто умерли бы с голоду.
Мэри промолчала, хотя это и стоило ей больших усилий.
А потом она увидела тростник и уже ничего не могла бы сказать, даже если бы захотела. Сначала он вырос перед ними зеленой стеной. Когда они подъехали поближе, она посмотрела поверх этой стены. Казалось, стена эта простирается до бесконечности – справа, слева, спереди. Это производило ошеломляющее впечатление.
– Вот сюда, – сказал Филипп. – Держи уздечку покрепче. Лошади терпеть не могут тростник, следи, чтобы твоя не понесла. – Он направился вперед, к узкой тропке между высокой негнущейся зеленой порослью.
Едва они проехали несколько ярдов, как Мэри сама чуть не взбрыкнула от страха. От их движения тростник громко зашуршал. Они были окружены тростником со всех сторон, его стебли доставали им до плеч. С листьев взмывали насекомые, обеспокоенные их вторжением, и Мэри от страха чуть не падала в обморок всякий раз, когда они касались ее лица и шеи. Она с силой выдыхала через нос, стараясь отогнать их. Копыта лошадей вязли во влажной почве и издавали хлюпающие звуки. Это напомнило перепуганной Мэри зыбучие пески. Над головой, в безоблачном небе, палило солнце. Тростник, казалось, улавливал жар, удерживал его, наполнял влагой, взятой от земли, превращая ее в липкий невидимый пар; он обволакивал Мэри этим жаром. Филипп крикнул через плечо:
– Разве не прекрасно?
– О да, – ответила Мэри.
Потом она поняла, что это и в самом деле прекрасно.
Растительность была густая, мощная, обильная. Она воплощала собой жизненную силу, саму жизнь. Это придало Мэри сил. Она почувствовала себя частью окружающего. Отогнав насекомых, она утерла мокрое лицо рукавом жакета.
– Прекрасно! – крикнула она и засмеялась от радости – радости, что она молода, жива, что находится в Луизиане.
Сахароварня ее разочаровала. После той жизненной силы, которую она ощутила в тростниковых полях, здесь казалось душно и безжизненно. Это было большое кирпичное здание, стоящее посередине большого неровного квадрата вытоптанной земли, скользкой после прошедшего дождя.
Мэри оглядела большое пустое пространство хранилища с кирпичным полом и передернулась.
– Здесь безжизненно, – сказала она. – Я лучше выйду.
– Безжизненно? Да ты с ума сошла, – сказал Филипп. – Здесь самое сердце плантации. Взгляни-ка сюда. – Сжав ее запястье, он втащил девушку в смежное помещение. – Посмотри на эти котлы. Осенью они будут полны тростникового сока. Сок будет кипеть, и воздух вокруг сделается горячим и сладким. Закрутится пресс, выжимая сок из тростника. Вот в этом углу люди будут ссыпать стебли, а другие будут перетаскивать их на противоположную сторону и закладывать в пресс. Давить и варить, днем и ночью, сначала один котел, потом еще и еще, пока сок не загустеет настолько, что при остывании будет выпадать кристаллами. Тонны тростника и тысячи галлонов сиропа. Сахароварня превратится в настоящий улей, люди будут работать до изнеможения и при этом петь и танцевать. А ты говоришь – безжизненно!
– Извини, – кротко отозвалась Мэри. Она посмотрела на огромные котлы, в каждом из которых могло поместиться четыре человека, и на огромные цилиндры, которые, вращаясь впритирку друг к другу, давили тростник. – Здесь все слишком большое, Филипп. Я не могу представить себе людей на фоне всего этого. Тут все под стать великанам.
– Я тебя прощаю. Тебе следует прийти сюда снова, когда здесь будут люди и тростник. Тогда сама убедишься. С этим ничто не может сравниться. А когда работы кончаются, празднуют так, что весь дом качается. Хозяева и рабы, их жены и дети. Будет настоящий пир – музыка, танцы, крики. На это стоит посмотреть.
– Мне бы очень хотелось посмотреть. А когда это будет?
– На каждой плантации по-разному. Это зависит от урожая, от того, насколько быстро работает техника. Мы все начинаем убирать тростник в октябре. Дядя Бернар обычно кончает варку сахара к Рождеству. Grandpère, по-моему, ориентируется на середину января.
– Неужели на это нужно так много времени?
– Мэри, ты же видела поля. Тростника очень много. Его надо срезать, на телегах привезти в сахароварню. А потом обработать. На все это нужно время, даже если все пойдет без сюрпризов, а их обычно хватает. Это совершенно сумасшедшая пора. Я ее обожаю. И тебе это тоже понравится, если только Grandpère разрешит тебе понаблюдать.
Мэри кивнула и улыбнулась. Про себя она подумала: «Меня здесь к тому времени уже не будет. Я буду со своей семьей. Но, судя по его рассказам, это действительно очень интересно. Может быть, у моих родных тоже есть сахарная плантация. Мне бы этого очень хотелось; хотелось бы увидеть эту сумасшедшую пору».
– Ну, я осмотрел все, что хотел, – сказал Филипп. – Пойдем. Мне надо разыскать Grandpère в полях и обо всем ему доложить. А ты поезжай прямо домой.
– А мне нельзя с тобой?
– Нет. Если хочешь, можешь поехать со мной днем. Мне надо заглянуть к бочару, заказать новые бочки и бочонки. Тебе это будет скучно.
– Нисколько, клянусь.
И ей не было скучно. Ни у бочара, ни на кузнице, ни в столярке, куда они ездили на следующий день, ни у колесника, ни у дубильщика, ни в гвоздильне, ни на мельнице, ни у печей для сушки кирпича – все это они посетили в последующие дни.
Впервые она почувствовала, что начинает понимать Grandpère. Если бы она была владычицей этого волшебного царства, она бы тоже никогда и никому не отдала его.
Потом, совершенно внезапно, все это кончилось. Радость открытий и узнавания нового, верховые поездки с Филиппом, разговоры, смех, рассказы Филиппа о тех изменениях и улучшениях, которые он намерен совершить, когда станет владельцем Монфлери.
Они с Филиппом выходили из конюшни, а Grandpère в этот момент угощался пуншем на галерее.

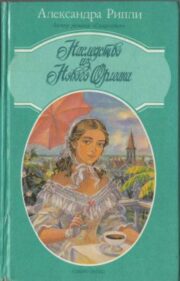
"Наследство из Нового Орлеана" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследство из Нового Орлеана". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследство из Нового Орлеана" друзьям в соцсетях.