– Да, я еду к Венае.
– Подумай хорошенько, Никаулис. Израиль – холодная бесплодная земля. Его обычаи странны, а законы жестоки. – Она старалась говорить спокойно, чтобы не выдать своей зависти. – Сейчас Веная может клясться в чем угодно, чтобы заполучить тебя, но сдержит ли он эти клятвы, когда ты окажешься в его власти?
– Я буду подвластна себе, а не ему. И да, Веная сдержит свое слово.
– Ты так уверена в нем, что готова войти в эту клетку и закрыть за собой дверь к свободе?
– Никто не может отнять у меня свободу. Царица моя, Веная уже немолод. Я проведу с ним те годы, что ему остались. Если пожелает этого Матерь, я подарю ему сына, а он мне – дочь. А когда его не станет, мы уйдем из Иерусалима, я и моя дочь.
– Никаулис, почему ты так поступаешь? Потому что Веная попросил тебя?
– Потому что он не просил, – ответила амазонка. – Отпусти меня, царица моя.
«Она свободна идти туда, куда ее ведет сердце. Она может делать то, чего не может царица. Не наказывай ее за это».
Билкис молча протянула руку. Схватив царицу за руку, Никаулис поцеловала ее. Билкис коснулась щеки своей амазонки и улыбнулась:
– Пусть твой путь озаряет улыбка богини. Возвращайся к мужчине, которого любишь, и будь счастлива.
Кивнув, Никаулис повернула на дорогу, ведущую обратно к большим иерусалимским воротам. Билкис смотрела вслед своей деве-воительнице, а та уже преодолела почти половину пути к городу, и вот из ворот навстречу ей вышел мужчина, который мог быть только Венаей. Никаулис остановила лошадь и спешилась.
Билкис не увидела ни рукопожатия, ни жарких объятий. Веная и Никаулис просто бок о бок шли по дороге, пока не скрылись за воротами. Когда они пропали из виду, Билкис тронула поводья и Шамс поскакал дальше. Она не оглядывалась, пока не поднялась на вершину Елеонской горы. Миновав ее, она уже не разглядит дворец Соломона. Билкис остановила Шамса и обернулась. Но по ту сторону Кедронской долины она не смогла различить ничего – ничего, кроме города, горевшего золотом под жарким солнцем. Уже сейчас она оказалась слишком далеко, чтобы снова увидеть Соломона.
Она смотрела на сияющий город так долго, что теперь он представал перед ней, даже когда она закрывала глаза. Ослепленная светом, она повернула коня. Перед ней лежала дорога на юг, где ждала Сава. Сжав ногами бока Шамса, она начала свой долгий путь домой.
Он клялся, что не будет смотреть ей вслед, – и лгал. Стоя на самой высокой дворцовой крыше, в саду – убежище их любви, – он наблюдал, как царица остановилась на вершине Елеонской горы. Воздух дрожал от жары. Всадница вдалеке казалась видением, нереальным, словно мираж.
«Лишь один взгляд, царица моего сердца. Один последний взгляд».
А потом, между двумя ударами сердца, она исчезла. «Уехала навсегда. Я мог удержать ее здесь. Я должен был удержать ее. Так поступил бы великий царь».
Он упорно смотрел на опустевшую дорогу, но лишь поднявшаяся пыль выдавала, что здесь прошло много людей и лошадей. Скоро пыль уляжется, и тогда не останется ни единого следа от проезжавшей здесь царицы Юга.
«Мужчина удержал бы ее, удержал бы при себе навсегда любой ценой. Жаль, что я не смог хотя бы раз повести себя как мужчина, а не как царь».
Но он понимал, что этого ему не дано. Соломон Премудрый не мог позволить себе такой роскоши.
«Что сделал бы Давид Великий, окажись он на моем месте? Как поступил бы царь Давид, если бы пожелал царицу Савскую?» Несмотря на свою печаль, Соломон улыбнулся. Им, младшим и самым незначительным из сыновей, занималась царица, а не царь. Своего прославленного отца он видел лишь изредка. Внимание и любовь доставались старшим царевичам – Амнону, Авессалому, Адонии.
«Соломон, всегда помни, что твой отец – царь. Цари не любят, – так сказала царица Мелхола. – По крайней мере, не так, как любят обычные мужчины и женщины. Царь любит то, что нужно любить, и лишь пока ему это нужно. Помни об этом, Соломон. Высеки это на своем сердце».
Жестокие слова. Что ж, царица Мелхола ненавидела царя Давида. Соломон понимал это с детства. Он лишь не понимал, почему она всегда смотрит на мужа холодным упрямым взглядом. «Прошлое осталось в прошлом. Оно не имеет значения. Имеет значение лишь будущее, которое ты построишь», – вот и все, что она ответила, когда однажды он осмелился спросить ее.
И, хотя в каждом ее взгляде на Давида скрывалась ненависть, словно свернувшаяся кольцом змея, она никогда не сказала о нем ни единого плохого слова. «По крайней мере мне. Говоря о нем со мной, она всегда отделывалась загадками. Неужели думала, что я не понимаю ее истинных чувств?»
Прошлое осталось в прошлом, но если оно не имело значения, тогда почему все эти якобы забытые деяния продолжали отравлять сердце Мелхолы?
Повзрослев, он понял своего отца. Точнее, понял, каким видели царя Давида люди, глядя на него с любовью или ненавистью. И этот образ, светлый или темный, менялся от человека к человеку, от мужчины к женщине.
«Если и есть у царя Давида недостатки, так это мягкосердечие. Всякому терпению есть предел. Не следовало ему прощать царевича Авессалома. Я, конечно, всего лишь женщина, мне неведомо то, что ведомо царю, но трижды простить Авессалома я бы не смогла», – это были самые резкие слова, которые Соломон за всю жизнь услышал от своей кровной матери Вирсавии. Ведь ее характер был таким нежным и мягким, словно Господь вылепил его из свежего меда. Никогда она не устремляла взгляд во тьму, лишь к свету.
А вот его приемная мать Мелхола не обладала мягкостью и кротостью. И видела она не свет и тьму, а тени. В отличие от Вирсавии, которая любила мир и все его дары, Мелхола смотрела на все внимательно и придирчиво.
«Она любила мою мать, меня и…»
И, несмотря на всю свою холодную ненависть, в ночь смерти Давида безутешно рыдала именно царица Мелхола. Она продолжала плакать, когда высохли глаза у всех, чье горе легко изливалось в слезах. Соломон не понимал тогда и не понял до сих пор, а теперь не осталось в живых никого, кто мог бы ему объяснить, что происходило между Мелхолой и Давидом. Оба они исчезли во тьме, которая рано или поздно поглощала всех, и навеки унесли с собой свои тайны. От царя Давида остались лишь его песни, а от царицы Мелхолы…
«Все, что от нее осталось, венчает моя корона». Сам Соломон был наследием царицы Мелхолы. Иногда он задумывался о том, знала ли она, что совершила на самом деле, когда воспитала из него такого царя, какого хотела.
Ведь она пыталась создать совершенного человека, чудесный сплав человеческого огня и царственного льда, нежной любви и суровой справедливости. Смешение невозможного, тяжелый груз для человеческого сердца. Соломон ее не винил, она лишь боролась за безоблачное будущее.
«Но ведь я видел, на что она идет, чтобы сделать меня царем. Неужели ей не приходило в голову, что я вижу, как она собирает каждое опрометчивое слово, каждый неосторожный взгляд, словно нити на ткацком станке? Подчиняя жизнь своей воле, царь Давид обтесывал ее, словно глыбу, а царица Мелхола ткала из нее узор. В сущности, они были очень похожи. Цари и царицы должны делать то, что нужно. Любовь, достоинство, долг, даже мудрость – все этому подчиняется».
Ведь что такое мудрость, как не умение склониться перед неизбежным?
«Да, это и есть мудрость, Соломон. Мудрейший из царей мира». Так называли его люди. Возможно, таким его и запомнили бы. «Если меня вообще запомнят. Но какой толк моей стране от этой хваленой мудрости, если за мной придет неразумный царь? Может быть, пора уже покончить с царями и вернуться к дедовским обычаям…»
Соломон поймал себя на том, что улыбается в ответ на эти грустные раздумья: с царской дороги нельзя мирно повернуть назад. Давным-давно, до того как он стал царем, как Давид Великий стал царем, даже до того, как Саул стал царем, было предсказано, какие сокровища принесет царь в дар Господнему народу.
Подати, воинскую повинность, муштру, рабство. А хуже всего было то рабство, на которое люди обрекали себя сами своей жаждой богатства, власти, безопасности.
«Может быть, царствование слишком дорого обходится».
Он смотрел на юг. Пыль еще не улеглась. Она густой золотой пеленой стояла там, где проехала царица. Своим появлением Билкис разрушила его покой, добытый с таким трудом, она испытывала его мудрость. И что осталось после нее?
«Честь, Соломон. Честь и долг».
Он знал, что она права. Для царя честь и долг были превыше всего. Честь требовала, чтобы он поступал наилучшим для царства и народа образом. «Таков долг царя. Но что лучше всего?»
Всю жизнь он считал, что наибольшее благо – мир. И на протяжении всех лет своего царствования он трудился, чтобы достичь этой цели. И пытался вырастить сына, который бы пошел по его стопам, по дороге, которую он проложил. Дороге мира и покоя.
Он нарочно закрывал глаза на очевидное.
«Мой старший сын станет царем после меня». Такую клятву он принес, чтобы сохранить порядок в царском доме, чтобы корона спокойно перешла от него к наследнику. Тогда эта клятва казалась разумной.
Но из его старшего сына получится плохой царь. Соломон наконец признал это. «Правда есть правда». Это причиняло боль. В конце концов, он ведь был его отцом.
Да, из Ровоама получится плохой царь, и что в этом такого? Соломона поразила эта мысль, но, в сущности, цари ведь начали править Израилем и Иудеей недавно. Сам он стал лишь третьим из тех, кто, получив корону, сел на золотой трон. И никто из этих троих не был старшим сыном своего предшественника.
Глядя, как на юге медленно оседает пыль, Соломон безмолвно обдумывал будущее.
«Если Ровоам станет царем, он недолго просидит на троне. Он начнет распри, а распри приведут к битвам. Ровоам не сможет говорить спокойно при необходимости, не сможет действовать мягко там, где этого потребует осторожность. Он посеет недовольство и пожнет бунт. Царь Ровоам расколет страну».

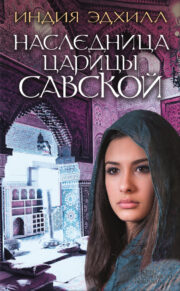
"Наследница царицы Савской" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследница царицы Савской". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследница царицы Савской" друзьям в соцсетях.