Царевна с надеждой улыбнулась, и Гелика вдруг поняла, что девочка робеет, а ее гордость – лишь защита от неуверенности. «Феникс. Птица, переродившаяся в пламени. Разве могу я ждать более ясного знака?»
Все сомнения испарились, вся боль и гнев сгорели и осыпались пеплом. Гелика склонила голову, безмолвно принимая милость своей богини, а потом взяла у Ваалит тунику и сжала в руках огненно-красную кожу.
– Да, царевна. Да, мне очень нравится.
В день своего отъезда она пришла к нему в последний раз. В последний раз поднялась по длинной лестнице в рай, который он создал для них на крыше. Сердце говорило, что он ждет ее здесь, и оно не обмануло. Когда она выбралась на простор, залитый медом солнечного света, Соломон ждал ее там, над Иерусалимом. Он протянул к ней руки, и она припала к нему.
Так они стояли обнявшись, пока медленные удары ее сердца не слились с его сердечным ритмом, пока не начало казаться, что у них одно на двоих дыхание, благоухающее розовой водой и миррой. И тогда она поняла, что пора заговорить.
– Соломон… – начала она.
– Нет, – сказал он, – позволь мне.
Она склонила голову, зная, о чем он скажет дальше, и зная также, что его слова лишь причинят боль им обоим.
«Но он имеет право их произнести, а я имею право выслушать. Это все, что мы можем».
Соломон скользнул руками вверх по ее телу и обхватил ее лицо ладонями.
– Любовь моя, душа моя, останься со мной. Ты хочешь этого, я хочу этого. Ты царица, я царь, кто может запретить нам?
«Кто, кроме нас самих?» На миг, на один вздох она позволила, чтобы ею овладел соблазн, растекаясь по телу, словно горячее вино. А потом она заставила себя улыбнуться и накрыла его руку своей, переплетаясь с ним пальцами. Она отняла его ладони от своего лица, но пока не отпускала.
– О Соломон, не имеет значения, чего хочешь ты и чего хочу я. Сейчас дело не в этом. И даже если бы это имело значение – любимый, тебя ведь называют Премудрым, и ты должен понимать, что я слишком стара и гожусь тебе в матери. Я слишком стара, чтобы родить тебе царевну. То есть царевича, ведь здесь ценят сыновей. Связаться с бесплодной чужеземкой – вдвойне безрассудно. Такова правда.
Она закрыла глаза, защищаясь от будущего, в которое он ее звал, будущего, которое она видела.
– А если я хочу безрассудства? Если я скажу: живи со мной, любимая моя, горная моя голубка? Если я скажу: не оставляй меня, сестра моя, благоухающая пряностями и миррой?
– Ты и так знаешь мой ответ, Соломон Премудрый, и знаешь, что разделяет нас, как если бы между нами лежал меч. Разделяет нас правда.
Он зажал ей рот ладонью, его прохладная рука не давала ей произнести ни слова.
– Не говори мне правду, любимая. Сейчас, в этот миг, не надо, чтобы между нами стояла правда. Говори мне то, что я хочу услышать, любовь моя. Лги мне. Говори мне прекрасную ложь.
Потрясенная, она обхватила его запястья. Зажимавшая ей рот ладонь скользнула на ее щеку.
– Что тебе сказать? Что мой возлюбленный хотел бы услышать?
– Скажи, что любишь меня.
– Я люблю тебя. Я всегда любила тебя. Я любила тебя еще до того, как ты родился, и буду любить до конца своих дней. Это правда. Разве этого мало?
– Да, мало. Скажи, что любишь меня больше, чем…
– …чем корону? – Она прижалась щекой к его ладони. – Это ведь скорее оковы, чем сокровище.
– Скажи, что любишь меня больше своей чести. Больше своего долга. Скажи… Скажи, что, если бы ты была достаточно молода, чтобы родить мне ребенка, ты бы осталась. – Он намотал на запястье ее волосы. – Скажи мне это.
Теперь он приказывал ей, как царь. Она твердо посмотрела ему в глаза:
– Если тебе угодно, господин мой. Да, если тебе угодно это услышать. Да, я осталась бы.
Она скользнула в его распростертые объятия и положила голову ему на грудь, слыша, как бьется его сердце, медленно и гулко, неустанно и терпеливо. Своим дыханием он согревал ее лоб, губами касался кожи.
– Царь мой, возлюбленный мой… О да, если бы я могла родить тебе ребенка – да, да, я осталась бы с тобой, стоило тебе попросить.
Он обнял ее крепче.
– Я царь. Я могу приказать что угодно, и никто не посмеет перечить мне. Я мог бы удержать тебя здесь, со мной.
– Но ты так не поступишь.
– Я мог бы удержать свою дочь. – Его слова звучали приглушенно – он говорил, уткнувшись в ее пышные волосы. – Билкис, я не могу потерять вас обеих. Не могу отказаться от нее. Она – все, что осталось от моего прошлого.
– Она – не прошлое, Соломон. Она – будущее. – Билкис на миг закрыла глаза, не в силах встретить его полный боли взгляд. – Ты должен отпустить ее владеть будущим.
– Должен. Царь всегда что-то должен. Только на это и хватает царской власти.
– Власть принадлежит богам, о царь.
– Тогда что же остается человеку, о царица?
– Любовь и мудрость.
– Любовь и мудрость, – повторил он, словно взвешивая ее слова на неумолимо точных весах. Улыбнулся, неловко, словно движение губ причинило боль. – И ты хочешь, чтобы я лишился и того, и другого.
– Как и я, потому что я царица. И потому что ты царь. А еще потому, что для нас существует то, что важнее мудрости и любви.
– И что же это? Ради чего я должен отказываться от всего, что имею? От самого себя? От всего, чего я желаю?
– Ты сам знаешь. Ради чести, любимый. Честь и долг. Без этого мы ничто.
– Честь и долг.
Солнце сияло на его волосах, словно корона. Билкис положила руку на его склоненную голову.
– В конце концов, только это и остается. А теперь поцелуй меня, возлюбленный мой, царь мой, и попрощайся со мной. И вспоминай меня иногда.
Он взял ее за руки, сжал крепко, до боли, и, склонившись, поцеловал ее ладони. Она прижимала их к его губам. Потом он отступил и положил ей руки на плечи.
– Каждый раз, почувствовав запах роз и корицы, я буду думать о тебе.
Она кончиками пальцев коснулась уголков его рта.
– Закончи свою песню, Соломон. Пой ее почаще. А почувствовав запах корицы и роз, думай о любви.
Он наклонился к ней, и Билкис закрыла глаза. Прикосновение губ к ее лбу было едва ощутимым, словно дымок угасающего пламени.
Снова открыв глаза, она увидела, что стоит одна среди роз и лилий в саду на крыше. Соломон ушел.
В сопровождении царевны Ваалит, вместе со своими служанками и евнухами, царица Савская выехала из Конских ворот. За ней следовали остальные участники ее свиты, яркие, как павлины, и шумные, как сойки, довольные, что наконец-то возвращаются домой, на юг. Впереди и позади царицы ехала ее стража, охраняя не только саму Билкис, но и дарованное ей сокровище. Отправляя свою дочь на юг, царь Соломон так щедро одарил ее, что хватило бы на целую империю.
Никаулис следила за караваном, проезжающим мимо нее через Конские ворота, наблюдая и оценивая: в этот важный последний момент нельзя было допустить, чтобы что-то пошло не так. «Скоро мы уедем, скоро оставим позади иерусалимские стены, и впереди будет лишь дорога домой».
Мимо проехали последние слуги и повозки с припасами. Визит царицы Савской к царю Соломону закончился. «Что ж, пора». Но Никаулис неподвижно сидела на своем терпеливом коне, ожидая. «Он придет. Мы должны попрощаться и пожелать друг другу счастья. Тогда – тогда мы сможем забыть».
– Никаулис. – Веная положил руку на бок лошади, совсем рядом с коленом Никаулис. – Значит, ты уезжаешь.
– Я служу моей царице. – Она посмотрела на его непроницаемое лицо. – А ты, значит, остаешься.
– Я служу моему царю.
Веная поднял руку и протянул ей, словно товарищу. Никаулис сжала его руку, и на один бесконечный миг их пальцы тесно сплелись. Оба молчали. Песок времени в их часах закончился, и слов не осталось даже для того, чтобы попрощаться.
Веная отпустил ее руку. Никаулис поехала вперед, догоняя царицу Савскую.
На дальнем холме Никаулис придержала лошадь и посмотрела на Город Давида. Столько людей, столько стен. Столько причин уехать, ни разу не оглянувшись.
И лишь одна причина остаться.
«Веная. Нет, даже не этот мужчина. Любовь».
Она наконец положила их любовь на весы и поняла, что эта любовь значит больше, чем все доводы, которые она могла привести против нее.
«Если я останусь, то, едва оказавшись в этих холодных каменных стенах, начну оплакивать все, что потеряла. Но, если уеду, буду оплакивать Венаю и себя. И жизнь, которую мы могли прожить вместе».
Выбор был тяжелым, как камень. Но этот выбор принадлежал ей.
И тогда Никаулис наконец поняла, которой из богинь будет служить.
«Последний взгляд назад – и я уезжаю». Она не могла отказать в этом Соломону, и себе не могла отказать в этой последней слабости. И вот Билкис приостановилась, пока ее караван медленно тянулся по дороге, и оглянулась на золотой город царя Давида. Иерусалим сиял на вершине холма, безупречный, надежно защищенный своими массивными стенами. Храм и дворец сверкали солнечным огнем, как два маяка.
Царя она отсюда не видела. «Но он смотрит. Я знаю, что он смотрит. Он уйдет, лишь когда уляжется пыль, поднятая моим караваном».
На нее упала тень, и она подняла глаза, чтобы посмотреть, кто отвлек ее от прощания.
– Никаулис, – приветствовала она командира своей стражи.
Билкис удивилась, когда амазонка просительно склонила голову:
– О великая царица, если когда-нибудь я хорошо служила тебе, выслушай меня сейчас.
– Конечно, Никаулис. Говори.
– Освободи меня от моей клятвы, о царица.
Билкис уставилась на нее, не в силах найти слова для ответа.
– Почему? – только и спросила она.
– Потому что половина моего сердца остается здесь, а я могу служить только всем сердцем.
– Все или ничего. Понимаю.
Таков был путь Никаулис. Она не пыталась договориться с собой.
– Так значит, ты едешь к царскому главнокомандующему?

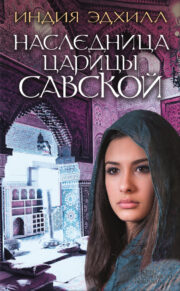
"Наследница царицы Савской" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследница царицы Савской". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследница царицы Савской" друзьям в соцсетях.