Разумные слова, чтобы опровергнуть это холодное обвинение, не приходили. Он со вздохом поднялся на парапет и оперся руками о нагретые солнцем камни. Внизу раскинулся Город Давида, озаренный полуденным летним солнцем. На крышах работали женщины – там развешивали белье. Служанки подходили к бочкам для сбора дождевой воды. «С такой высоты мой отец увидел, как моя мать купается на крыше, и подумал, что она прекрасна…»
А когда Соломон поднял глаза, его взгляд заполонил сияющий золотом храм.
«Город Давида. Храм Соломона». Он отвел взгляд от слепящего блеска храма и снова посмотрел на жаркий суетливый город. Город царя Давида. «Долго ли еще они будут называть Иерусалим этим ласковым именем? И будут ли говорить о моем храме с такой же любовью и гордостью, как об отцовском городе? Или меня забудут и мои пороки и добродетели исчезнут, как пыль, развеянная по ветру?»
Бывало ли его отцу Давиду так тяжело на душе? Или матери? Соломон поймал себя на том, что улыбается, вспоминая ласковый характер Вирсавии, ее нежелание слышать злые слова и видеть подлые поступки. Нет, Вирсавия не знала страха и отчаяния. «Ее всегда озаряло солнце».
А его вторая мать, царица Мелхола? «О, это совсем другая история». Царица Мелхола всегда привечала его, сына своего сердца, но он чувствовал, что за ее взглядом скрывается глубокий холодный колодец. Соломону не приходилось видеть, чтобы она ласково смотрела на его отца; нет, когда она смотрела на царя Давида, в ее глазах читалось холодное змеиное терпение.
Сердце у нее было не каменное. Никто не знал этого лучше, чем он. Но ее ледяной взгляд светился теплом лишь для него и его матери, а для Давида, героя, ради которого она бросила вызов своему отцу Саулу, которого она ждала десять лет, когда ее выдали замуж за другого, ради которого она пожертвовала собственным будущим, – для Давида ее глаза оставались пустыми.
Иногда ему казалось, что это лишь его глупые выдумки. «Мальчишки, а уж тем более царевичи, очень ревнивы и думают лишь о себе. Мне хотелось, чтобы она любила меня больше всех, в этом все дело!» Да, наверное. Ведь все песни утверждали, что царица Мелхола любила царя Давида превыше себя и собственной чести.
Но в памяти звучало предостережение самой царицы Мелхолы: «Песни очень красивы и приятны для слуха, но никогда не путай песню с правдой». В отличие от его матери Вирсавии, Мелхола внимательно прислушивалась к каждому слову и видела каждое действие ясно, как в солнечный полдень. Этому она научила и его: «Нужно знать, где истина, Соломон, даже если сам идешь другим путем. Нужно знать, что такое добро, даже если творишь зло».
«Но ведь лучше идти путем истины и творить добро?» – спросил он тогда, и царица Мелхола улыбнулась. «Да, душа моя, лучше идти путем истины и творить добро, но царю это не всегда подвластно. Иногда царь должен делать то, что правильно».
Он много лет не мог разгадать эту загадку. Соломон снова улыбнулся, на этот раз собственной глупости.
«Что ж, я знаю, что такое истина и добро. Что же мне делать с этим великим бесценным знанием? И как мне узнать, что правильно?»
«Соломон Премудрый», – рассмеялся он, передразнивая себя. Соломон Премудрый, который знает и умеет все. Не умеет он лишь срывать плоды счастья с колючих веток. «А что делает человека счастливым? Любовь?»
Непрошеные, пронеслись перед глазами его жены. Нефрет и Наама, Меласадна и Двора. «Столько жен… Любит ли меня хоть одна из них?»
«А ты хоть раз их спрашивал об этом, Соломон?» В этом шепоте слышалась насмешка. Этот упрекавший его голос принадлежал Билкис.
Что ж, теперь он любил. Любовь благоухала жгучими пряностями. Билкис, царица Савская, зрелая, мудрая и теплая. «Моя последняя любовь».
Совсем не похожая на первую. «Моя жемчужина, моя роза, песнь во плоти. Моя Ависага».
Его страсть к Ависаге была пылкой и требовательной. Так любят мужчины в молодости. Обуздывая свое желание, уступая возлюбленную престарелому отцу, он провел много бессонных ночей и тревожных дней. Те решения нелегко ему дались.
Но царь Давид лежал при смерти, дряхлый, продрогший до костей старик, и Соломон склонился перед его нуждами и волей приемной матери. «Нет, скажи правду хотя бы себе. Царица Мелхола согласилась с этим планом и воплотила его вместе с собственными хитростями, чтобы добыть мне трон. Но придумал все это я».
Соломон невольно вспомнил, с какими словами обратился к царице Мелхоле в поисках ее одобрения: «Сначала я подумал, что моему отцу нужна помощь и утешение в старости. А потом мне пришло в голову, что девушка, выбранная, чтобы ухаживать за ним, может передавать нам его разговоры с другими». Было и кое-что еще, но эти слова Мелхола произнесла за него: «Если потом ты женишься на девушке, служившей твоему отцу, это укрепит твое положение наследника».
Когда он открыл царице Мелхоле свои мысли, она сказала, что он рассудил здраво. Соглядатайка в спальне Давида, а затем царица при дворе Соломона… Это казалось таким благоразумным и простым.
Но тогда он еще не начал искать ту девушку, которой предстояло делить ложе с двумя царями.
Тогда он еще не нашел ее.
Свою любовь.
А вместе с любовью и боль. Ведь Ависага выполнила его желание. Она следила за его отцом, как тень, передавая все ему. «Прекрасная девица, достойная того, чтобы ухаживать за отцом, спать с ним, согревая его промерзшие кости. Царская девица, которая своими нежными молодыми руками передаст власть от старого царя новому…»
Ависага делала все, о чем просили Соломон и царица Мелхола, и даже больше. И никогда она ни единым движением ресниц не выдала и не позволила догадаться, что происходило между ней и Давидом. Соломон по сей день не знал, лежал ли его отец с Ависагой, как мужчина с женщиной.
И не хотел знать.
В их брачную ночь Ависага пыталась рассказать об этом. Соломон понял, что она хочет поклясться в своей невинности, но он не позволил ей говорить. «Не имеет значения, что было между тобой и моим отцом, – ответил ей Соломон, – не нужно произносить слова лишь потому, что я хочу их услышать. Что было, то прошло».
В ее глазах, ярких, словно звезды в ночи, блестели слезы. «Соломон, муж мой, возлюбленный мой, я хочу, чтобы ты знал…»
Соломон обхватил ее лицо ладонями и быстро поцеловал в нежные губы, пахнущие корицей и розами. «Все это позади, любовь моя. Все в прошлом. Сегодня наша ночь, она принадлежит лишь нам. Даже если в прошлом тобой владел царь Давид, твое настоящее и будущее принадлежат царю Соломону. Довольствуйся этим».
Ависага долго смотрела ему в глаза и наконец сказала: «Я могу довольствоваться этим, но сможешь ли ты?»
«Да, – ответил он. – Да. Ты сердце мое и царица моя, Ависага, а больше ничто не имеет значения».
Так говорил он в их брачную ночь. Тогда он считал себя благородным, великодушным и щедрым. Многие мужчины, даже если бы сами отправили невесту в чужую постель, все равно требовали бы, чтобы она пришла к ним девственницей.
«Но я поклялся ей, что это не имеет значения. Думаю, она мне поверила. Надеюсь, поверила».
Ведь теперь Соломон знал, что заставил ее молчать не из великодушия.
Он просто испугался правды, которую мог услышать.
«Зачем она приезжала? Что пообещал ей отец?» Этот вопрос терзал Ровоама, портя удовольствие от того, что ему позволили выбирать жеребят. Стоило появиться его сестре – и отец, обо всем забыв, со всех ног бросился к ней. Братья, конечно, не обратили на это внимания. «Никто из братьев не видит, что она крадет принадлежащее мне. Наследник я, а не она! Тут ей не Савское царство!»
Его вдруг охватил страх, мороз прошел по коже. Да, Израиль – не Савское царство, но отца околдовала царица Билкис, а ту – Ваалит. Что если чужеземка уговорила отца возвысить Ваалит, сделать ее царицей Израиля?
Да. Это все объясняло. Равнодушие отца к нему, отказ сестры выйти за него, ее надменное нежелание ему подчиняться. «И сегодня на конюшне она говорила о том, чтобы стать царицей». Ровоам обладал тонким слухом, и некоторые ее слова рассекали воздух, словно удары кнута. «Да, скорее всего, она затеяла именно это. Ну подожди, я скажу своей матери, и тогда…»
И что тогда? Конечно, мать придет в ярость. Она заботилась лишь о его счастье, о его будущем. «Если отец решил посадить ее на трон, на этот раз она точно ее отравит». Эта мысль принесла облегчение, но потом Ровоам задумался. Его сестра никогда не страдала никакими болезнями, и если бы она внезапно умерла… «Заподозрили бы мать, а я не могу ее лишиться». Вот если бы у Ваалит были враги… «Но все ее считают такой разумной, такой безупречной…
Нет, не все».
Ровоам вдруг ясно понял, что нужно сделать, чтобы его единокровная сестра Ваалит больше никогда не омрачала его будущее, словно мать стояла у него за спиной и нашептывала советы.
В базарные дни Ахию легко было найти: он стоял у Овечьих ворот, поучая прохожих, словно неразумных детей. Ровоам наблюдал, как мимо пророка идут люди. Почти никто не обращал внимания на его слова. «Они уже сыты по горло словами этого старого дурака». Ровоам и сам не мог слушать бесконечные гневные речи Ахии, но теперь он увидел, как его можно использовать. Царевич улыбнулся и, расталкивая людей и скот, направился к старику.
– Приветствую тебя, о пророк, – начал он.
Ахия посмотрел на него и нахмурился:
– Слова Яхве кажутся тебе смешными?
Ровоам тут же придал своему лицу серьезное выражение:
– Нет, я улыбался лишь потому, что обрадовался, так легко найдя тебя, ведь мне нужно поговорить с тобой. Я… У меня неспокойно на сердце, и я прошу твоего мудрого совета.
Да, это должно было польстить пророку! Все любят раздавать советы, особенно царевичам! Хотя эта мысль больно уколола его, Ровоам сохранял безмятежное и открытое выражение лица.
Ахия внимательно посмотрел на него, словно стараясь заглянуть ему в душу, потом, видимо удовлетворившись, кивнул:

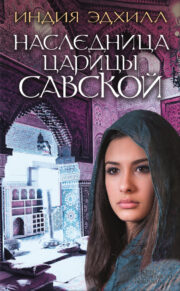
"Наследница царицы Савской" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследница царицы Савской". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследница царицы Савской" друзьям в соцсетях.