– Да, отец.
Я могла бы посмотреть ему в глаза, моя воля была столь же сильна, но отец отвернулся, глядя на моих братьев и гнедого жеребенка.
– Ты не понимаешь, о чем просишь, Ваалит. Ты слишком молода, чтобы понимать. – Его голос доносился словно бы издалека негромким эхом. – Ты слишком молода, чтобы решать такие вещи.
– Я не слишком молода, чтобы выйти замуж. Не слишком молода, чтобы родить своего ребенка.
– Это другое дело.
Охвативший меня холод сменился жаром гнева:
– Почему другое? Я достаточно взрослая, чтобы рисковать жизнью, рожая ребенка для своего мужа. Значит, я достаточно взрослая и для того, чтобы решить…
– …стать царицей?
– …уехать из этого царства.
До того как я произнесла эти слова, я сама не знала, что так хотела покинуть дом. «Золотую клетку. Оковы, украшенные драгоценными камнями». Откуда взялись эти слова? Отец не был тюремщиком, а его дворец не был тюрьмой.
Он снова повернулся ко мне, и тогда я поняла, о чем говорят его глаза. Я увидела в них боль потери и одиночество. Мою мать отняла у него смерть. Скоро долг отнимет у него Билкис. Он не хотел потерять еще и дочь.
– Отец… – Мне перехватило горло, и я едва могла говорить. – Отец, рано или поздно мне придется тебя оставить. Мне придется покинуть тебя, если я выйду замуж. Отпусти меня в Саву. Благослови меня.
Я приготовила еще один довод. Эти слова мне было тяжело произнести – я знала, что они, при всей своей правдивости, причинят боль отцу.
– Я хочу уехать. Для меня здесь небезопасно. Мой брат Ровоам…
– Да, он передал мне, что говорит о тебе пророк Ахия. Но он так говорит обо всех женщинах, Ваалит.
Боясь мести Ровоама, я совсем забыла о пророке. Но пророк и впрямь представлял дополнительную опасность.
– Он говорит так обо всех женщинах, потому что ненавидит всех женщин, будь то богини или смертные. Он мечтает о том, чтобы нас всех забили камнями у городской стены.
Отец заставил себя улыбнуться:
– Не позволяй ему тревожить тебя, дитя. Я царь. Ахия может изрыгать проклятия и неистовствовать, но он ничего не сделает. Не позволяй ему выгнать тебя из дома.
– Но я хочу уехать.
Хотя я говорила тихо, за этими словами таилась железная решимость.
Отец покачал головой:
– Не проси об этом. Я готов сделать для тебя что угодно, кроме этого. Я могу заставить молчать Ахию, я могу заставить молчать…
– Ты не можешь заставить молчать меня, отец, я ведь твоя дочь. Я не смогу жить здесь спокойно. Отпусти меня. Пожалуйста.
И тогда отец произнес слова, которые я никогда не думала от него услышать:
– Я запрещаю тебе. Ты моя дочь, и ты подчинишься.
Я смотрела на отца, не в силах поверить, что он мог сказать такое, а он добавил:
– Твое место в Женском дворце. Поезжай домой и оставайся там.
Сначала потрясение не позволяло мне выплеснуть гнев и боль. Я медленно и спокойно оставила отца, братьев и гнедого жеребенка, о котором они спорили. Медленно и спокойно прошла мимо просторного загона с нервными жеребцами. Медленно и спокойно добралась до двора, где меня ожидал Ури. Не говоря ни слова, приняла поводья от конюха, взобралась на спину Ури и медленным и спокойным шагом выехала за ворота на широкую равнину.
А там я пустила Ури галопом.
В этом заключалась моя вторая ошибка, ведь Ури принадлежал к тем лошадям, на которых можно ездить лишь тогда, когда владеешь собой так же хорошо, как конем. Ури, воистину царственное создание, не потерпел бы всадника-глупца и не позволил бы, чтобы им управляли чужие беспорядочные прихоти. Не сделав и дюжины шагов, Ури понял, что его погоняю не я, а гнев. Гнев требовал, чтобы он бежал быстрее ветра. Жеребец вскинул голову и закусил удила. И, прежде чем я успела понять, что происходит, он кинулся вперед, не подчиняясь мне.
Сначала эта дикая скачка пьянила меня. Ветер хлестал меня по глазам и трепал волосы. Я чувствовала, как перекатываются мышцы коня между моими бедрами. Мы мчались по равнине, гонимые моим безумием. Словно на крыльях, мы взлетали на вершины холмов и наконец ворвались в узкий проход, ведущий к дороге на Иерусалим. Но тут Ури споткнулся о камень, я покачнулась, едва не свалившись, и пришла в себя, а он совсем потерял голову.
Теперь мы неслись галопом по дороге, высеченной в скале, по камню, выглаженному за долгие годы копытами и колесами. Один неудачный шаг – и мы с Ури упали бы с обрыва и разбились.
И, как раз когда эта мысль ворвалась в мой ослепленный злостью и отчаянием разум, Ури поскользнулся. Он отчаянно боролся, чтобы восстановить равновесие, а копыта разъезжались на гладком камне. Когда же ему удалось твердо встать на ноги, он снова ринулся вперед. Протрезвев от страха, я ухватилась за кожаные поводья, пытаясь остановить нашу безумную скачку, но слишком поздно. Мой гнев ослепил Ури. Он летел вперед. Так хотела лететь и я, спасаясь от ненавистного мне будущего. Конь делал для меня то, что мне было нужно, – он уносил меня прочь, а я уже ничего не решала. Теперь мне требовались все недавно обретенные навыки, чтобы просто не упасть.
В долину мы спустились целыми и невредимыми лишь благодаря ловкости Ури и шальной удаче, моей же заслуги в этом, конечно, не было.
Сбегая со склона холма в долину, дорога разделялась. Один путь вел на север, к Гаваону, а другой резко сворачивал на юг, к Иерусалиму. Ури чуть замедлил свой галоп, словно решая, куда свернуть. На короткий миг, которого едва хватило бы, чтобы сделать вдох, я получила одну-единственную возможность заставить своего коня снова мне подчиниться, и я ухватилась за нее, не позволяя себе думать о том, чего может стоить неудача.
Отпустив поводья, я левой рукой вцепилась в гриву коня, а правой потянулась к удилам. Я едва не падала, пришлось сжать ноги и левую руку изо всех сил, зато правой я нащупала то, что искала. Не выпуская уздечку, я перевалилась назад, держа ее крепко и твердо.
Эта отчаянная попытка оказалась успешной. Мой конь дернул головой, почти коснувшись моего колена пылающими ноздрями. Потом он пошел медленнее, тряся головой в тщетных попытках избавиться от уздечки, впивавшейся в его рот и мешавшей мчаться вперед.
– Полегче, Ури, полегче.
Я говорила тихо, но твердо, убеждая Ури снова мне подчиниться. Он заложил уши назад, его лихорадочные скачки становились все короче и медленнее, пока наконец он не начал слушаться узды и движений моих ног.
Когда сила и скорость Ури снова оказались в моей власти, я остановила его и спешилась. Соскользнув на землю, я почувствовала, что ноги подгибаются, словно бескостные, и я не могу стоять. Лишь ухватившись за мокрую, покрытую пеной шею Ури, я смогла не упасть.
Так я стояла, пока мое дыхание не успокоилось, а кровь не перестала стучать в висках. Я посмотрела на Ури. Его взмыленные бока блестели, словно облитые маслом, ноздри отчаянно раздувались – он тоже задыхался. Мускулы подергивались под моими руками.
Но, когда я повела его вперед, он пошел ровным шагом, и я чуть не разрыдалась от облегчения. Ведь мой безрассудный гнев мог его искалечить. Мне повезло, что все обошлось, и я знала, что не заслуживаю этой удачи. Я гладила Ури по мокрой шее и умоляла простить меня за то, что так обошлась с ним, словно он мог меня понять. А может быть, он и понял, ведь, когда я ласково говорила с ним, Ури терся головой о мое плечо, словно утешая.
Я сложила руки, прикрыв горячую мягкую кожу его морды, и Ури лизнул мне ладонь. Я поняла, что он хочет пить, но у меня не было воды.
– Знаю, – сказала я, – прости.
Потом я взяла поводья, и мы медленно вернулись на большую дорогу, ведущую к Иерусалиму.
Долгие годы правления научили Соломона не поддаваться гневу и боли. Как будто дочь и не приезжала, он продолжал оценивать лошадей, которых к нему выводили. Лишь вернувшись в Иерусалим, он позволил себе начать думать о том, что произошло, и при воспоминании о своих словах его захлестнул стыд. «Я запрещаю тебе». Он, так гордившийся тем, что справедливо и с уважением относится ко всем мужчинам и женщинам, говорил с родной дочерью так, словно… «Словно она моя собственность, словно она…»
Словно она действительно была драгоценностью, как он говорил о ней, сокровищем, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению. Неужели он и вправду относился к ней так?
«Нет. Нет, конечно, я к ней отношусь не так. И все же она моя дочь… Нет, не буду продолжать эту мысль. Ваалит еще ребенок, она сама не знает, чего просит». Да, именно: ребенок, ослепленный величием чужеземной царицы, которая польстила ей. Но, сколько Соломон ни старался обуздать свои мысли, у него не получалось. Яркое безжалостное солнце не могло испепелить стоявшее перед глазами дерзкое лицо дочери, ее отчаянный взгляд.
И шум городских улиц не мог изгнать эхо его собственных слов, произнесенных жестоким, словно чужим голосом: «Ты моя дочь, и ты подчинишься».
«Как я мог сказать ей такое? Словно бы… Словно бы я владел ее душой…»
Словно его дочь была одним из достояний царской казны, достаточно ценным, но не обладающим своей волей. Вещью, которую можно по мановению руки отправить под замок.
Закон говорил, что все именно так и есть. В печали и гневе он заговорил как любой отец, отчитывающий непокорную дочь. Дети принадлежали мужчине. Их держали при себе, чтобы было на кого опереться в далеком туманном будущем. Отец мог выбрать для дочери какую угодно судьбу. Так гласил Закон.
«Так ты теперь будешь цепляться за холодный Закон?» – спросил себя царь. Разве он сам не учил Ваалит жить собственным умом и считать себя равной любому из своих братьев? «Да, Соломон, это ты в безумии своем наделил ее пытливым умом и храбрым сердцем». А теперь, когда она захотела идти к собственному будущему, которым он не мог управлять, он отнял свои дары.
«Решая, как устроить будущее дочери, следовало просто открыть для нее это будущее. А теперь ты осмеливаешься призывать Закон?»

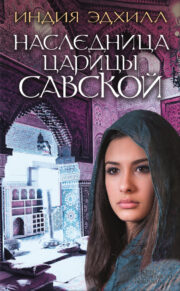
"Наследница царицы Савской" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследница царицы Савской". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследница царицы Савской" друзьям в соцсетях.