Женщины яркие и опасные, словно змеи.
Иудейки боялись чужеземок и завидовали им – живому воплощению перемен, происходивших в царстве. И они не могли изгнать их ни из Женского дворца, ни из объятий царя Соломона.
Некоторые поддавались соблазну и перенимали понравившиеся обычаи и наряды. Такие женщины очень многословно рассказывали о том, что по-прежнему соблюдают Закон. «Закон не говорит о том, что женщина не может одеваться в черное, по-колхидски, если ей это нравится. И, в конце концов, кто это видит? Я же на рынок так не хожу!» Это говорилось с неловким смешком. Они пытались убедить не только меня, но и себя.
Некоторые иудейки старались жить в гареме так, словно он был населен мужчинами, а других жен не существовало. Такие говорили мало, но их слова ранили, словно острые ножи: «От них лучше держаться подальше. Я даже никогда не перехожу на их сторону сада. А им хватает ума не прикасаться к моим воротам своими нечистыми руками».
А одна дочь Закона не поддалась ни соблазнам, ни ненависти. Госпоже Дворе каким-то образом удавалось держаться середины.
Хотя у нее было ровно столько же нарядов, сколько у остальных, все они кроем и цветом соответствовали тому, что полагается носить скромной замужней женщине. В ее покоях тщательно соблюдался Закон, а Господу воздавались все почести. Но это благочестие не мешало госпоже Дворе сплетничать с женщинами, которые одевались и молились не так, как она.
– Конечно, я соблюдаю законы Господа, – сказала она мне, – но не могу же я их соблюдать за других, к тому же они и не принадлежат к Его Завету. Попробуй, что я испекла. Это мой собственный рецепт, я заменила инжир абрикосами.
Я попробовала сладкий пирожок, которым она меня угощала, и похвалила его. Признаю, что была у меня и тайная причина зайти в полдень к госпоже Дворе: она славилась своим умением готовить.
– Так ты не считаешь чужеземных жен моего отца нечистыми?
– Конечно считаю. Они едят нечистую пищу и поклоняются идолам. Но вместе с тем я могу спокойно говорить с ними, когда мы встречаемся в саду. Тебе нравится это вино? Только честно. Я настаивала его на гвоздике и корице, но, может быть, следовало добавить больше меда?
Я снова заверила ее, что вкус потрясающий.
– А ты не считаешь их бесстыдными? – Затем, словно только что вспомнив, я сказала: – Госпожа Читрайоти расхаживает в таком виде… На мне ночью в постели и то больше надето!
– Ой, иногда мне кажется, что она так ходит лишь потому, что Пазия, Лия и другие при виде нее превращаются в соляные столбы, – как будто мы все в баню не ходим! Когда дует зимний ветер, она полуголая не красуется. Еще пирожок, детка?
Она угощала, и я взяла еще один маленький сладкий пирожок.
– А как же их идолы?
– Это же чужеземки! Что с них взять? – пожала плечами госпожа Двора. – Они ведь не заставляют меня поклоняться их идолам. А если бы и попытались, я бы не стала. Впрочем, им хватает ума не пробовать.
«Да, ведь, если они тебя оскорбят, ты перестанешь угощать их вином с корицей и пирожками с абрикосами!» Эта недостойная мысль заставила меня рассмеяться. Мне удалось придать смеху подобие кашля, и я поспешила спросить, можно ли взять несколько пирожков, чтобы угостить служанок.
– Конечно можно, а потом обязательно передай мне, понравилось ли им.
Польщенная госпожа Двора позвала одну из своих служанок и приказала наполнить миску пирожками. Отхлебнув вина из своего кубка, она спросила:
– Почему ты интересуешься всем этим, детка?
Я заранее придумала объяснение своему любопытству, но вопрос госпожи Дворы меня удивил: до нее никто ничего не спрашивал.
Улыбнувшись, я ответила:
– Дело в том, что мне придется когда-нибудь покинуть дом моего отца и отправиться в чужую страну. Мне нужно понять, как жить там мирно и быть счастливой.
– Ты мудрая, вся в отца, – сказала Двора, одобрительно кивая. – Что ж, я скажу тебе, чему научилась сама: пусть в твоем доме будут твои порядки, и другим позволяй делать, что они захотят, пока это не мешает тебе.
Я поблагодарила ее и сказала, что это звучит мудро.
– И все? – спросила я.
Подумав еще, она сказала наконец:
– Всегда улыбайся мужу и подавай его любимую еду. И позаботься о том, чтобы придумать свои собственные блюда, чтобы другая женщина не могла приготовить ничего подобного. У тебя кубок опустел, давай я тебе налью еще.
И, пока Двора подливала мне вина с пряностями, я обдумывала ее слова. Потом я спросила, что для нее тяжелее всего в этой жизни среди стольких чужеземок.
Она вздохнула.
– Если честно, я больше всего жалею о том, что не могу есть их еду и узнавать их секреты.
– А разве ты не можешь попросить рецепт и изменить его, чтобы он соответствовал Закону?
К моему удивлению, она рассмеялась:
– Ох, детка, ты так наивна! Ни одна повариха не раскрывает всех своих секретов! Нет, – покачала она головой, – чтобы по-настоящему узнать новое блюдо, мне нужно увидеть, как его готовят, и попробовать. Этого удовольствия я лишена… Съешь еще пирожок, милая. Ты слишком худенькая. Мужчинам нравятся пухленькие девочки.
Отправляя меня изучать мужчин и женщин, царица Савская смеялась. Когда я вернулась и рассказала ей, что я сделала в меру своего разумения и что мне удалось узнать, она снова засмеялась и сказала только, что для начала я неплохо справилась.
– Ведь, если тебе придется управлять женщинами и мужчинами, тебе нужно знать, каковы они на самом деле.
– Но я и так знаю.
– И что же ты знаешь, милая Ваалит? – улыбнулась она.
– Я знаю, что все женщины и все мужчины разные. И все одинаковы. Некоторые счастливы везде, а некоторые нигде не могут быть счастливы. И все без исключения – цари и царицы в своем мире.
Я ожидала, что она снова засмеется, но ошиблась. Вместо этого она улыбнулась и провела по моей щеке прохладной рукой.
– Да, у себя в душе все мы – цари и царицы. Ты знаешь в четырнадцать лет то, чего многие не узнают никогда.
А потом она произнесла слова, которые, словно горячее вино, согрели мою кровь:
– Маленькая богиня, когда-нибудь ты станешь такой же мудрой, как твой отец. Ты создана для того, чтобы править, ты рождена быть царицей.
Несколько ударов сердца я грелась в солнечном свете ее похвалы, а потом сдержала свои мечты, словно гарцующих коней.
– Ты очень добра. Но здесь это все не имеет значения. В конце концов, я ведь всего лишь царская дочь.
На это царица Савская ничего не сказала. Что она могла сказать, если мы обе знали, что я говорю жестокую правду?
Он не мог запретить себе смотреть на свою гостью и любоваться ее роскошной зрелой красотой, естественной и свободной, как будто красота была покрывалом, которое она изящно и легко носила. А еще теперь он стал замечать, что и дочь его часто видится с царицей. Сегодня он стоял в длинной галерее над садом Женского дворца и снова смотрел на них обеих – Билкис и Ваалит. «Они стали близкими, как сестры. Нет, не сестры, между ними другая связь». Но он пока не мог подобрать названия тому, что их связывало.
Внизу, в женском саду, его Ваалит и царица Юга сидели рядом, совсем близко, словно дочь и мать. Царица говорила, а девочка смеялась. Вот Билкис протянула руку и коснулась волос Ваалит, накручивая на палец огненно-рыжую прядь. Потом царица сказала что-то. Девочка улыбнулась, а после с лица ее исчезло всякое выражение. Обе сидели неподвижно. В медовом солнечном свете они казались застывшими в янтаре.
Затем Ваалит пожала плечами и засмеялась. Соломон вдруг почувствовал усталость. Он закрыл глаза, чтобы не видеть восторженного лица дочери. «Я рад, что она счастлива. Конечно, я рад, но…»
«Но что, о великий царь? – с издевкой спросил внутренний голос. – Но для твоей дочери эта чужая женщина теперь значит больше, чем ты? Ты для нее уже не самый желанный собеседник?»
А потом явилась еще одна мысль, ясная, безжалостная, как смерть, острая, словно только что закаленный клинок: «А ты хотел всегда держать ее при себе?»
Он отшатнулся от темного соблазна. Нет, конечно, этого он не хотел! Он хотел, чтобы его обожаемая дочь получила все то, чего желали другие женщины: дом, мужа, детей. Нельзя душить дочь в объятиях своей отцовской любви. «Но Ваалит еще такая юная…»
«Ей почти четырнадцать. Ее мать вышла за тебя замуж, когда была немногим старше, чем Ваалит сейчас». Соломона приучили смотреть правде в лицо. Теперь он заставил себя снова взглянуть на то, что происходило в саду внизу. Освободив свой разум от лишних мыслей, он внимательно рассматривал Ваалит, словно видел ее впервые.
И он не узнавал свою дочь: она выросла высокой, гибкой и стройной, как пальма. Ее когда-то непослушные волосы были укрощены и заплетены в косы, уложенные короной. Тонкое льняное платье обрисовывало изгибы бедер и округляющуюся грудь.
«Она уже не ребенок. – Соломон впустил в свое сердце эту правду. – Она все еще моя дочь, но скоро станет чьей-то женой».
В саду внизу Билкис продолжала что-то говорить. Она излучала страстную настойчивость, царь видел это, хотя и не слышал слов. Дочь, словно зачарованная, не сводила глаз с чужеземной царицы. Взгляд девочки сиял, словно лунный свет…
«О Билкис, ты пленила мое сердце. Неужели ты завоюешь и мою дочь?» Ведь царице Юга предстояло рано или поздно вернуться в свою страну и оставить на память лишь тоску.
«А нужно ли ей возвращаться? – спросил внутренний голос. – Ты царь Израиля, Иудеи и многих других земель. Разве ты не можешь удержать одну-единственную женщину, если желаешь ее?
Нет. Нет, об этом даже думать нельзя». Никогда раньше Соломон не понимал по-настоящему, как человек может действовать против собственного здравого смысла. В своем ослеплении он кичился тем, что всегда все решает с помощью холодного рассудка, всегда делает то, что правильно, справедливо и обдуманно, и в ход его мыслей не вмешиваются прихоти и страсти.

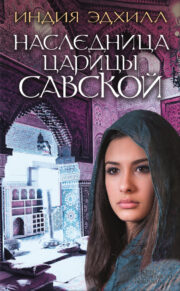
"Наследница царицы Савской" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наследница царицы Савской". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наследница царицы Савской" друзьям в соцсетях.