У Любы имелся свой список претензий к брату. Никита, когда она была маленькой, регулярно отвешивал ей подзатыльники. А родители не заступались, потому что она, видите ли, первой начала кусаться и щипаться. Брат распоряжался телевизором, смотрел футбол и не давал переключаться на мультики. Он запросто мог взять ее фломастеры или выдрать листы из альбома для рисования. Но стоило Любе позаимствовать у него калькулятор или плейер, вопил и грозил кулаками. Однажды попросила его: «Побей, пожалуйста, Колю Суркова, чтобы он в меня влюбился». Брат отказал. Сказал, что будет только тех пацанов наказывать, которые к Любе пристают. А для любви — пусть сама выкручивается. Коля Сурков на Любу — ноль внимания, дружил с Настей, что отравляло Любе ее счастливые детсадовские годы и первый-второй классы.
Но теперь все их — брата и сестры — потасовки, взаимные упреки, жалобы родителям в прошлом. У Никиты взрослая жизнь, у Любы — свои девичьи заботы. Они мирно сосуществовали и, к взаимному удовольствию, обменивались: услуга — деньги, деньги — услуга.
Малину испортила бабушка.
Никита собирался выйти из дома:
— Люб? Где моя черная майка и джинсовая рубашка?
— В чистом белье, не глажены.
— Так погладь!
— Пять рублей за майку и десять за рубашку.
— Почему это у нас цены возросли?
— Рубашку гладить в три раза сложнее, чем майку. В стране инфляция. Даже врачам и учителям зарплату повысили. Мне тоже прибавь. И за чистку обуви тоже.
— Крохоборка!
— Не мелочись, братик! Итак, глажка: майка — пятерка, рубашка — чирик, брюки со стрелочками — двадцать рублей, джинсы — пятнадцать. У тебя на джемпере дырочка, могу фигурно заштопать, видно не будет — за тридцатник. Ботинки замшевые…
И тут они услышали бабушкин возглас:
— О ужас!
Бабуля стояла в дверях, заломив руки, смотрела на них как на преступников. Родных, любимых, но бандитов, застигнутых на месте преступления.
— Вы… вы, — заикалась она. — За деньги… брат сестре… Люба Никите… как чужие, как деляги…
— А что такого? — быстро одевался в то, что подвернулась под руку, Никита. — У нас нормальный маленький семейный бизнес.
— Я же немного беру, — оправдывалась Люба, — только сегодня повысила цены.
— Да как вы можете! — шумно вздохнула бабушка.
Полную грудь воздуха набрала. Значит — морали станет читать добрых три часа.
— Опаздываю! — прошмыгнул мимо бабушки Никита.
— Мне к Насте надо, подготовиться к контрольной по химии, — рванула следом Люба.
Бабушка осталась одна, с большим неизрасходованным потенциалом эмоций и нравоучений. Она нервно ходила по квартире, затем решительно сняла трубку телефона и набрала рабочий номер дочери.
— Лиля?
— Да, мама?
— Не знаю, как и сказать. У нас трагедия.
— Что? Дети? — похолодела Лиля, и одновременно ее бросило в жар. — Что с ними?
— Они разложены.
— Как разложены? Где, кем разложены?
— Капитализмом, рыночными отношениями.
— Ничего не понимаю! Скажи мне: они живы, здоровы?
— Только физически.
— Мама! Ты напугала меня до судорог!
— Есть чему пугаться! Никита платит Любе за утюжку его вещей и чистку обуви! — драматическим голосом сообщила бабушка.
Лиля и ее муж догадывались, что Никита небескорыстно подбрасывает Любаше деньги, но большой трагедии в этом не видели. Точнее — у них не выработалась оценка подобным взаимоотношениям. Однако их предыдущий родительский опыт говорил о том, что, чем меньше вмешиваешься, тем больше толку. На сторону сына или дочери становишься — только распаляешь детские склоки. Чохом, обоим, не разбираясь, выдать по первое число — шелковыми становятся. Запрутся в своей комнате, шушукаются, и любовь-дружба возвращается на почве осуждения жестоких родителей.
— Дочь? Лиля, ты меня слушаешь?
— Да, мама. Не нервничай, пожалуйста!
— Как не нервничать? Я на грани гипертонического криза или даже инфаркта!
— Выпей лекарство, успокойся. Мы обязательно разберемся. Придем вечером и поговорим с детьми.
— Надо что-то делать! Решительное!
— Конечно. Спасибо, что позвонила! У меня срочная работа. Целую!
Лиля явно недооценивала серьезности случившегося.
Бабушка отправилась на кухню чистить картошку к ужину. Руки дрожали, нож сорвался и ударил по пальцу. Бабушка швырнула нож и недочищенный клубень в мойку, снова вернулась в большую комнату, к телефону.
Звонила зятю:
— Пригласите, пожалуйста, Краморова Станислава Геннадьевича! — официально попросила она.
— Анна Прокопьевна, это я.
— Станислав! У нас большое горе!
— Лиля? Дети? — всполошился, как и дочь несколько минут назад.
— Дети.
— Где они? Что с ними?
— Ушли по своим делам.
— Но с ними все в порядке?
— Совершенно не в порядке! Мне стало известно об их извращенных отношениях.
— Чего-чего?
Анна Прокопьевна не заметила, как свалилась салфетка с открытой ранки на пальце.
— Ой, весь телефон кровью залит!
— Что там у вас происходит? — орал Станислав. — Какие извращения? Откуда кровь? Говорите немедленно!
— Не кричи! Хотя поводов для беспокойства предостаточно. Кровь из моего пальца, я порезалась. Но это дела не касается. Должна тебе сообщить, что твой старший сын платит твоей младшей дочери! Деньги! За каждую мелкую услугу, которую любящая сестра должна любящему брату…
— Ах, это! — облегченно вздохнул Станислав.
— Да, ЭТО! Не надо закрывать глаза на симптомы, которые в будущем приведут…
— Анна Прокопьевна, все понял, разберемся, сегодня же. У вас все? Чертова прорва работы, зашиваюсь, извините! До встречи!
Такие они занятые! Дочь и зять. Когда дети гибнут, не может быть других забот!
Станислав считал свою тещу доброй и самоотверженной женщиной. С одним исключением: с ней нельзя говорить о политике, сравнивать советское время и настоящее. Никакие доводы не могли прошибить бетонную преданность Анны Прокопьевны прошлым ценностям.
Недавно Люба ее спросила:
— Бабушка, а где в советское время была сырокопченая колбаса?
— В праздничных заказах.
— Это специальные магазины?
— Нет, продуктовые наборы, которые давали к праздникам.
— Значит, в простых магазинах ее не было? — уточнила Люба.
— Не было, — вынужденно призналась бабушка.
— А где была?
— Я ведь уже объяснила.
— Но я не понимаю! Если выгодно делать колбасу, если люди ее покупают, то почему не выпускать?
— Потому что внимание уделялось не деликатесам, без которых люди прекрасно обходились, а бесплатным здравоохранению, санаторно-курортному лечению, образованию, поддерживанию низких цен на коммунальные услуги, достойным зарплатам и пенсиям.
— Все равно не понимаю! Вот есть у тебя достойная зарплата, и ты хочешь вкусной колбасы. Но купить не можешь?
— Иногда выбрасывали полукопченую, — вспомнила Лиля. — Слово-то какое — «выбрасывали», как собакам. Мы давились в очередях. Две трети моей молодости прошло в очередях.
Ситуация повторялась. Бабушка багровела от возмущения: в родной семье точно во вражеском окружении. Всем становилось ее жалко, и, как могли, спускали дискуссию на тормозах.
Люба прекрасно знала, что вечером предстоит разбор полетов. Почему ей одной отдуваться? А Никита ни при чем?
Она позвонила брату:
— Никитулечка! Родненький, приезжай, а?
— Мне некогда.
Как же! Слышно, музыка гремит, с приятелями зажигает в баре.
Но Люба удержалась от упреков. Захныкала:
— Братик, не бросай меня! Они же с меня стружку снимут до костей. А-а-а…
— Не реви! Ладно, подскочу.
Сестра ждала его у парадного.
— Пошли сдаваться? — подмигнул ей Никита.
— Врагу не сдается наш гордый «Варяг».
— И штык мозолистый — к бою!
Приятели их бабушки, собираясь по революционным праздникам, в конце застолья пели пролетарские песни. Маленький Никита однажды допытывался у родителей, что такое «штык мозолистый». Ему объясняли: такого не бывает. Никита настаивал: «Но бабушка поет!» Выяснилось, что это из песни:
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!
Напевая бодрый революционный марш, они зашли в квартиру. Их ждали. Отец и мама сидели на диване, бабушка — в кресле. По хмурым лицам родителей можно было догадаться, что бабушка уже высказала все, что думает о разложении внуков. — Никита! — возмущенно сказал отец. — Устроил тут, понимаешь, купи-продай! Возмущение Станислава Геннадьевича объяснялось не столько преступлениями детей, сколько голодом. Целый день во рту ни маковой росинки, из кухни аппетитным духом тянет, желудок урчит, а тут педагогические беседы. — Люба! — осуждающе покачала головой мама. — Как тебе не стыдно с брата деньги брать?
— Но я же за работу!
— Аморально! — подала голос бабушка.
— Действительно, — продолжила мама, — что это за семья, в которой естественное участие оплачивается? Только представь! Я начну брать деньги с папы и с Никиты за обеды и ужины, стирку…
— Я вообще миллионершей стала бы! — заметила бабушка.
— Так пойдет, — подхватил папа, — за каждый чих и «будьте здоровы!» станем расплачиваться?
— Не надо доводить до абсурда! — скривился Никита. — Дело выеденного яйца не стоит.
— Оно стоит вашего нравственного облика! — патетически заявила бабушка. — Гниение надо остановить на корню! Вам привиты чуждые идеалы!

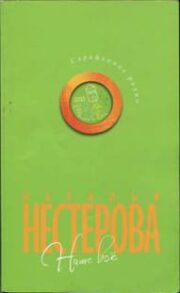
"Наше все" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наше все". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наше все" друзьям в соцсетях.