Теперь все снова слышали и слова Андреаса и слова Раббани.
— Она — не человек, — ответил Раббани Андреасу, — не человек, а некое явление; как дождь, или жар, или полный зверей лес. Ее не надо прощать или не прощать. Но она мешает здесь, сейчас; и я могу изгнать ее и изгоняю…
И опять же он не стал простирать кверху руки и произносить какие-то заклинания. Но все увидели безмолвные корчи зыбкой женщины на кровле и ее телесные превращения… вот женщина… старуха… девочка… труп с болотно позеленелым лицом… череп в причудливом парике… снова девочка… Превращения стали зыбкими совсем, очертательными какими-то… И все исчезло… Только легкий, холодный, морозный пар взвился и рассеялся. И сильно соединило всех то, что они все вместе увидели чудо.
Сафия тоже была на площади, но она стояла далеко от отца и от Андреаса, они даже и не видели ее. Ей казалось, что это будет какое-то некрасивое тщеславие — подчеркивать сейчас свою близость к ним. И даже когда все уже случилось и закончилось, она так и не подошла к ним, вернулась домой одна.
Дома она села на маленький, постеленный у ее станка ковер, поджала ноги под себя, как обычно делала, и стала размышлять.
Сначала она почему-то подумала о Вольфе, который был мужем госпожи Амины. Кажется, он не любил путешествий и в далеких странах не бывал. А что говорили о его жене, о ее происхождении, о том, откуда она взялась? Сафия не помнила, а, может, и не слышала никогда. Наверное, говорили и думали совсем не так, как было на самом деле. А Вольф помнил то свое путешествие в далекий город, который назывался Бальсора; помнил, как привез оттуда женщину? Или не помнил? И когда могло произойти такое путешествие? Какое это было «на самом деле»? «На самом деле» воображения и души, или «на самом деле» тела и телесного сознания?..
После Сафия стала думать об этой Амине-Алибе; о том, как эта женщина жила, когда ощущала себя обычной, но невольно применяла для достижения обычных целей необычную силу…
И вдруг Сафию поразила одна мысль: наверное, столько страшного совершила Амина-Алиба; а хотела добиться мелочного и низменного, хотела, чтобы отец Андреаса не давал ему денег. Столько страшного и таинственного ради такого мелочно-низменного…
«Как странно, что так волшебно исчезло это сосредоточение женской обыденной сути», — подумала Сафия.
Но отцу и Андреасу об этих своих размышлениях Сафия говорить не стала.
Андреас спросил мать, не сохранила ли она случайно, несмотря на всю их нужду, ту праздничную одежду, что он заказал себе когда-то для пира в большом зале ратуши. И оказалось, что эта его одежда из белого с легкой голубизной плотного шелка цела. И куртка с узкими рукавами, и к ней — золоченый ремешок; и белые чулки; и короткий пышный белый шелковый плащ, подбитый и опушенный тонко-пушистым темным дорогим мехом. Мать переложила одежду в сундуке сухими травяными снадобьями и потому все было, как новое, и мех остался цел. Мать повесила одежду эту на вешалку, чтобы отвиселось, распрямилось. И туфли нашлись — те, праздничные, нарядные, из хорошей дорогой кожи сделанные, с длинными загнутыми носками и на высоких широких каблуках, а в каблуки вделаны были маленькие колокольчики. Только фетровая шляпа оказалась попорченной какими-то домовыми насекомыми. И одевшись, Андреас остался с непокрытой головой. Зато мать сберегла его тонкую серебряную цепочку с подвеской в виде кораблика из одной большой жемчужины и золотых тонких проволочек. И теперь эта цепочка, как прежде когда-то, обвила смуглую шею и спустилась на яркий белый шелк одежды. Андреас был таким стройным, как тогда, в двадцать лет, и та, прежняя, одежда пришлась по нему.
Когда он пошел по улицам, люди высовывались в окна и выходили из домов. Сверстники его любовались на него с восторженным умилением, как на чудо своей ожившей молодости. Молодые невольно проникались настроением старших и тоже смотрели на медленно ступающего, улыбчивого, наряженного с этим уже старинным щегольством человека, проходящего перед ними, как на чудо.
Андреас пришел проститься с Сафией.
Она надела красное платье, такого теплого красного цвета; а рукава были сплошь затканы золочеными нитями, уже немного потемнелыми от времени. Вырез платья был маленький, треугольный; и нитка жемчуга, чуть пожелтелого, от которого вдруг стало тепло бледной смуглой коже тонкой, обняла шею. Сафия в первый раз вынула из ушей свои маленькие серьги с желтыми камешками и вдела другие — с жемчужными подвесками. Волосы собрала узлом на затылке, приподняв золочеными заколками ближе к маковке, и перевила двумя тонкими нитками жемчуга. На левом запястье у нее был жемчужный браслет; запястье было узкое и браслет чуть скользил. Все это был свадебный наряд ее матери; и Андреас, когда увидел Сафию в таком наряде, изумился радостно, улыбнулся, и глаза его темные будто стали еще больше.
Сафия отступила несколько шагов назад и тоже радостно любовалась им. Потом взяла его за руку и провела за занавеску, где был накрыт стол. Скатерть и еда были праздничные. Сафия после не могла припомнить, когда же в то утро ушел отец. Но когда пришел Андреас, она уже была одна; или даже раньше, когда оделась.
Они сели за стол, стали есть молча, торжественно и с удовольствием, и стали пить вино. И улыбались друг другу.
Так улыбаясь, Андреас спросил ее, что она думает относительно того, что следовало бы возлюбить ближнего своего, как самого себя.
— Нет, нет, не как себя, — ответила она нежно и чуть возбужденно, — не как себя, а как того, кого ты любишь. Теперь чувствую, как можно любить того, кого любишь. Такая теплота и теплое и нежное очарование у любимого человека.
— Но любовь к другому человеку, — возразил Андреас, — очень тревожное и даже капризное чувство. Себя любишь спокойнее, ровнее; от себя нельзя уйти, пока живешь, а, может, и после смерти…
— И от меня, — Сафия улыбнулась, — и от меня уйти нельзя, никогда. Любимый человек — озаренный, — сказала она.
— Да, я люблю вас, — кротко сказал Андреас. — Вы не похожи ни на одну женщину в мире, вы ни на кого не похожи, вы единственная, и потому я люблю вас.
— Скажите мне еще раз эти слова, — попросила Сафия, — и расскажите мне снова, почему вы любите меня. Это очень простые слова и многие люди должны говорить их друг другу, и вы мне уже говорили прежде… Но скажите мне снова; мне так хорошо, приятно слушать вас…
Он наклонил голову в знак согласия и заговорил:
— Вы не похожи ни на одну женщину из тех… — он чуть запнулся, — из того, что я знал, — твердо проговорил, будто говорил не о тех, в сущности, немногих женщинах, которых знал, а о каком-то женском начале, о какой-то сути, почему-то ведомой ему, ведомой смутно и ярко… — И потому я люблю вас, сказал он, — И это наше любовное объяснение, — он улыбнулся и чуть склонил голову набок. — И у меня от этого ум за разум заходит! — он засмеялся.
— А у вас есть и то и другое? — спросила она, тоже улыбаясь, и с таким неожиданным веселым лукавством.
Он в ответ снова засмеялся.
Она вдруг совершенно уверилась в его любви и стала говорить с такой веселой легкостью.
— А почему я не похожа на других женщин? — спросила она.
И он заговорил с увлечением, так, как говорил ей об этом прежде.
— Другие женщины любят себя в любви мужчины, или в своей любви к мужчине или ребенку, или просто в своей любви к себе; а вы любите себя в любви вот к этому… — он указал рукой туда, где была ее комната; он знал, что там станок с ковром, сотканным до половины. И она поняла его жест. — Вы жизнь творите не из человеческой плоти, как другие женщины, — говорил он дальше, — а вот из этого, — он повторил свой жест, — из нитей, и красок, и станка, и своего воображения. И потому ваша жизнь — творение искусства… А теперь — давайте петь…
Он немного отодвинулся на своем стуле — половицы старые скрипнули — от стола с этой простой оловянной посудой; взял в руки лютню, лежавшую на краю стола, он принес ее с собой; заиграл и запел.
Сейчас у него был такой прелестный голос, мягкий, звонкий и сильный. Голос этот выражал красивую чувственность, и способность безоглядно возвышать воображением предмет своей любви, и способность страдать…
Он сыграл медленный танец. После заиграл и запел итальянскую песню «О, Пречистая!..» Один заезжий итальянский лютнист принес эту песню в город, Андреас ее выучил, и Сафия тоже знала эту песню и знала, о чем эта песня… Хотелось говорить о своей любви к нему, но не своей матери и не его матери, а другой, все понимающей. Но эту другую она все равно любила сейчас, как его мать; не как христианскую Богоматерь, а как его мать, — маленькую, как изюминка, и с косичкой светлой серебряной, подколотой на затылке… Прежде Сафия знала, что люди другие, не такие, как она, Сафия, и потому она никогда не будет счастлива их счастьем; но у нее не было зависти… Она тоже запела. Голос у нее сделался нежный и легко лился. Она чувствовала себя худенькой и легкой, девочкой; и ведь и вправду она была девочка, ничего не знала… Сейчас ей верилось, что она будет счастлива так, как она не должна была быть счастлива… он рядом с ней, он останется рядом с ней… она будет смотреть, как он ест и пьет, она покажет ему свою работу, они лягут рядом… Она замолчала. Его смутил ее взгляд. Он положил лютню снова на стол. Лицо его приняло мягкое выражение осмысленной жалости. Он поднялся, подошел к ней и наклонился к ней, приложив свои ладони к ее плечам сзади. Плечи у нее были покатые и худые. Он стоял за ее стулом и наклонив свое лицо над ее лицом, целовал ее. Губы у него были теплые и было сладко…
Она встала и быстро отошла к стене.
— Скоро… — прошептала она и как будто задыхалась.
Он снова сел на стул и сидел задумчиво, как-то приопустив плечи.
— Твой отец мог бы рассердиться, — задумчиво произнес он. — Мы пели о Богоматери…

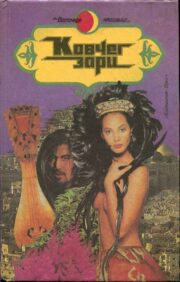
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.