— Я говорил вам, что ничего страшного не будет, — сказал Раббани.
В гробу никого не было, пусто, совсем никого. Не так, как бывает, когда тело совсем сгнило, рассыпалось, нет. А было так, будто в этот гроб никогда никого и не клали.
Толпа молчала, уже не было страха; все ждали, что будет дальше.
— Ее здесь нет, — сказал Раббани, — но сейчас я могу приказать ей явиться.
Он не стал размахивать руками, не произнес никаких непонятных колдовских слов или заклинаний. Но вдруг на кровле ближнего дома явилась женщина.
Дом был высок ровно настолько, чтобы все на площади могли ясно видеть ее. Но не сразу все заметили, что она выше обычного человеческого роста. Она даже и не казалась живым человеком, но как бы видением, внезапно уплотнившимся, но все равно легким, и готовым в любое мгновение исчезнуть легко. Она вовсе не выглядела враждебной, казалась погруженной в себя. На ней было длинное просторное складчатое платье, какое-то светлое, коричневатое; глаза у нее были вытянутые, и это странное выражение кормящего животного — коровы, козы; большие круглые зрачки, чуть приоткрытые пышные губы. На голове она носила какой-то странный, плотный, из множества плотно сплетенных, переплетенных локонов парик, спускавшийся до плеч, парик был темно-коричневый.
Те, что еще помнили госпожу Амину, казалось, теперь узнали ее. Но тем, кто был помоложе, казалось, что это ее дочь Алиба. В сущности, никто и не мог бы теперь сказать, чем различались мать и дочь. Кажется, у дочери взгляд был бойчее…
Видение замерло с опущенными руками в широких рукавах, налетал легкий ветер и чуть колыхал платье.
— Я знаю ее, — сказал Раббани. — Только не спрашивайте, как это вышло. Мертвых забывают, и, возможно, уже мало кто помнит покойного Вольфа; а если и помнят его, то наверняка жалким старьевщиком. Но я-то помню его иначе. Я помню его сильным и умным человеком, хорошим лоцманом; он далеко провожал корабли. Вольф знал, кто я. Но вы не спрашивайте.
Однажды я был в далеком большом портовом городе, который называется Бальсора. Не спрашивайте, как и почему я там был, и в каком обличье, и в обличье ли… Бальсора… Это на Востоке. Там тепло и море светлое. Там все есть в порту — жемчуг, рубины, дорогое малабарское дерево, камфора, шелковые ткани, тростниковый сахар, металлы, амбра, слоновая кость, шкуры леопардов и рабы… Однажды жарким днем в порту я услышал крики: «Сафина! Сафина!» Слово это на тамошнем языке означает «корабль». Я удивился. Кораблей много. Почему кричат? И вдруг я увидел ее. Никто не понимал, что это она; может быть, никто ее и не видел; но все были охвачены каким-то странным волнением и не понимали причины своего внезапного волнения. Все кричали: «Корабль! Корабль!», как будто никогда не видели кораблей. Но этот корабль был и вправду необычный, этот корабль привез ее. Она сошла по мосткам и исчезла в городе; и город был охвачен необычным затаенным страхом.
Даже я потерял ее; не мог понять, где она, не мог найти ее. Я углублялся в самые отдаленные кварталы; блуждал по узким темным и грязным улочкам, где жили воры, нищие, несчастные женщины, продававшие свое тело за одну большую лепешку или за пару мелких монет. Я чувствовал, что она где-то здесь, и что я смогу увидеть ее в самом грязном ее обличье. Не надо только думать, будто самое грязное обличье и есть истинное обличье. В грязном темном тупике, где скверно пахло отбросами, я увидел ее. Она лежала на темной твердой земле. Два большеголовых карлика с короткими руками и ногами ласкали ее тело и лицо. С третьим таким же карликом она совокуплялась. Она была худая и темнокожая, как цыганка; в грязном рваном платье, волосы жесткие и коротко, как у преступницы, остриженные. Тогда, в тот день, ей было тринадцать лет. На другой день, быть может, двадцать; на третий, быть может, снова тринадцать, или тридцать… Она почувствовала мое приближение… И тотчас и она сама и карлики мгновенно; даже я не успел заметить, как это сделалось, превратились в грязных уличных поджарых собак; пронеслись мимо меня и с громким лаем скрылись в лабиринте улиц.
Я ничего не мог изменить.
На другой день я снова был в порту. Я увидел Вольфа, но я не мог подойти к нему и предупредить. Не спрашивайте, почему. Я увидел мужчину, который вел закутанную в темное покрывало женщину. Ее протянутые вперед руки были связаны и он тащил ее за веревку. Было видно, что она молода, в самом расцвете женских сил. Наивный и прямодушный пожалел бы ее. Но я видел, что на самом деле это она вела в порт мужчину, чтобы он там продал ее. И она знала, кому он должен продать ее. Я знал, что Вольф должен много денег. Он сильно потратился на лечение своих детей, но они все равно умерли. Однако теперь у него были деньги. Он мог вернуть долг и у него бы еще много осталось… Но все свои деньги он отдал за нее… — Раббани помолчал, затем заговорил снова. — Я сейчас слишком много говорю об этом. Об этом обычно не говорят вовсе, или говорят мало, и намеками, загадками…
Но уже никто не удивлялся рассказу Раббани. Его только спросили дружелюбно, кто он.
— Я — это я, — ответил он, — но я — это и другой кто-то. Не все мне ясно, — он снова помолчал, затем продолжил. — Мы с ней во вражде. Но есть и другие силы; и с ней, и против нее, и куда более враждебные ей, чем я… Я не мог ничего сказать Вольфу. Но болезнь его усиливалась и чувства его обострялись. Он уже почти понимал, что я имею какое-то важное для него знание. Впрочем, мое знание тогда было в чем-то смутное. Я не знаю и сейчас, зачем она показала свою силу бедняге Ёси, слуге Вольфа. Что он такого сумел увидеть, о чем мог проговориться, я не знаю. Она сама не властна над своей силой и вдруг может показать свою силу какому-нибудь совсем простому разумом человеку. Я видел, как лицо Ёси, совсем простецкое, озарилось восторгом. Он вскочил на окно, ударил в ладоши и бросился вниз. Я не знаю, что он увидел; каждый видит свое. Рассказать никто не может и не всякий может выдержать и остаться в живых. — Раббани поискал глазами Андреаса и указал на него рукой. — Вот он увидел сущность, одну из многих сущностей. Плохо ему, он болен. Но от этой болезни так чудесен и спасет нас. Она не знает себя. Зло течет бессознательно, неосознанно. То, что вы видите сейчас, это не сущность. Видение порождает стремление к полету. Но у человека уже нет сознания, что это — полет вниз!.. — Раббани уставил вниз темный палец, твердый и сильный. Андреас молчал и, казалось, размышлял напряженно.
— Я не знаю, что такое она, — сказал Раббани. — Она — сама обыденность жизни, а обыденность жизни — это и благо и зло, и зло и благо. — Раббани снова указал на Андреаса. — Он — необычность, в него трудно поверить, в нее поверить легко. Но верьте в него сейчас, верьте! Примите его. — Все смотрели на Андреаса. Но он не казался смущенным, только серьезным, очень задумчивым, сосредоточенным. — Она — одно, — продолжил Раббани, — но у нас возникает иллюзия, будто их — две. Даже у меня иногда возникала такая иллюзия. Но он, — Раббани снова указал на Андреаса, сделав несколько шагов к нему, — он в детстве один раз обрел способность видеть. И он увидел, что она — это одно. Скажи коротко, что ты видел, Андреас?
— Вернее было бы сказать, что я не видел ничего, — заговорил Андреас. — Он говорил негромко, но почему-то все на площади слышали его голос. — Я был маленьким и пришел в дом отца. Я видел и слышал, как отец и его жена говорили с пустотой и о пустоте. И они говорили так, будто пустота — это была маленькая девочка, дочь жены отца… Но я не могу понять… Отец был обманут?
На лице Раббани ярче проступило это выражение мальчишеской пытливости, почти детского открытого любопытства.
— Нет, — сказал Раббани. — Она и сама не всегда сознавала, что, в сущности, не существует ее дочери. Она и сама жила как во сне. Она словно бы снилась людям. И в этом сне она ощущала себя обычной женщиной и совершала обычные мелочные женские поступки. Но сама того не сознавая, она совершала эти поступки с необычной силой. И вдруг пробуждалась и тогда защищала себя…
— От меня? — спросил Андреас беззащитно.
— Да. Ты был ее невольным врагом. Вот ее знак, — Раббани повел в воздухе высоко вскинутым указательным пальцем и все поняли, что он начертил знак креста с загнутыми под углом концами. — Это страшный знак, — сказал Раббани, — знак страшной животности в человеке; знак страшного женского начала, которое непрерывно само себя порождает и жаждет в этой своей животности властвовать и торжествовать. Это знак-оберег родильной нечистоты, знак жизни для себя и смерти для других. Есть и богиня такая и ей поклоняются. И в далеких-далеких индийских странах этот знак называют: «свастика», от слова «свасти» — «благо». Но это страшное благо, когда уничтожается духовное и торжествует животность в человеке. Я и еще те, кто подобен мне, а я подобен им, мы зовем этот знак: «Часы Ветра»… — от этого странного сочетания слов — «Часы Ветра» — на площади и вправду словно бы замерло странное, холодное и таинственное дуновение. Видение женщины на кровле чуть заколебалось зыбко. Раббани продолжил говорить. — Ее знак, — он обратился к Андреасу, — ее знак — вбирающая в себя разомкнутость, разверстая пасть, пещера, поглощение; злой и нечистый знак. Твои знаки — добрые и чистые — замкнутая звезда, сердце замкнутое, замкнутый корабль плывущий; петух, зовущий зарю…
— Смысл — в победе добра над злом? — Андреас спросил едва слышно и с каким-то унынием в голосе. На этот раз его слышал один лишь Раббани.
— Смысл — в гармонии, — тихо отвечал Раббани, — в гармонии, которая, вероятно, невозможна, и даже идеал ее непредставим… — Раббани усмехнулся.
Улыбнулся и Андреас.
— Довольно и того, что смысл — не в борьбе и не в победе, — сказал он. И легко, с облегчением вздохнул.
Видение женщины сделалось недвижно.
— Но если она сама себя не понимает, — сказал Андреас, — значит, она не виновата, а всего лишь такова, какова она есть. Зачем карать ее? Я ей прощаю мои мучения. И моя мать простит ее, как простила моего отца…

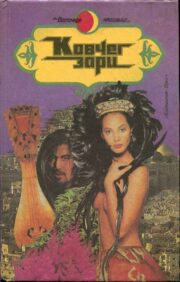
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.