Когда бывало холодно на улице, матери все казалось, что холодно в комнате сына, ведь печь была в ее комнате. Перед сном она приходила в его комнату и нагревала его постель медной грелкой с наложенными в нее углями. Она часто спрашивала его, не холодно ли ему ночью, и хотя он всегда отвечал, что нет, она будто и не помнила и спрашивала снова. Ночью она бесшумно как тень возникала в полутьме комнаты сына и укрывала его еще одним теплым одеялом. Утром он выходил к ней и говорил:
— Мама, зачем? Мне ведь не холодно…
Но она отвечала уже немного почти старчески ворчливо:
— Не холодно не холодно, а ноги у тебя совсем холодные были ночью!..
И тотчас напоминала ему, чтобы он не забыл надеть поверх теплых чулок носки из толстой шерсти.
Другому юноше эта материнская заботливость показалась бы, наверное, докучной; наверное, он принялся бы нетерпеливо и досадливо противоречить матери, как это обычно и бывает; и в результате оба чувствуют себя мелочно озлобленными, обиженными и издерганными, словно обоих их долго и бесцельно дергали, как дергают ребятишки деревянных кукол на ниточках. Но Андреас был не таков. Он способен был как бы чувствами своими проникнуть в душу матери, все понять, и потому всегда говорил с ней ласково и улыбался ей, исполнял ее просьбы, хотя и чаще всего исхитрялся потихоньку снять открыто надетые носки из толстой шерсти и уйти в чулках. Он никогда не грязнил свою чистую душу мелочными ссорами с матерью, а если даже и противоречил ей, случалось, то всегда с улыбкой добро-насмешливой и милой, и всегда уступал ей. Улыбка сразу делала его похожим на мать, сразу становилось ясно заметно, что у него такой же мягко закругленный кончик носа, как у нее…
Когда Элиас Франк пришел к Гогенлоэ по поводу дела Елены, тот спросил о его сыне, правда ли, что мальчик уже известен как хороший мастер. Элиас Франк скромно отвечал, что, пожалуй, это правда. Гогенлоэ тогда мимоходом сказал, что, вероятно, закажет Андреасу кое-какую работу. Но прошло не так уж мало времени, Андреасу исполнилось пятнадцать лет, и только тогда Гогенлоэ вспомнил о своем намерении.
Однажды вечером пришел из городского дома Гогенлоэ в скромное жилище Андреаса и его матери слуга в одежде традиционных цветов семейства Гогенлоэ, то есть в черно-красной, и передал, что его господин просит Андреаса Франка завтра явиться в городской дом Гогенлоэ. Понятно было, что, в сущности, это и не просьба, а приказ. Елена разволновалась и плохо спала ночью. Вроде бы никакая опасность не грозила ее сыну, но любая возможность, любая невольная нужда в общении с высшими, знатными и богатыми, всегда вызывала в ее душе волнение и страх. Андреас не боялся, старался успокоить мать, но чувствовал, что и ему сделалось как-то немного тревожно и не по себе. На следующий день он отправился в городской дом Гогенлоэ. Там его не хотел впускать привратник и даже замахнулся на него.
— Скажите, что пришел Андреас Франк, ювелир, скажите вашему господину, — спокойно сказал Андреас привратнику.
— Нет здесь моего господина и не стану я уходить со своего места ради мальчишки, который сам не знает, что говорит!
Андреас почувствовал досаду и хотел было уйти, но представил себе, как встревожится мать, когда ему придется рассказать ей, что привратник не пустил его и что он подосадовал и ушел. Андреас терпеливо повторил свою просьбу. Тогда привратник замахнулся на него и воскликнул (видно, был человек с больным, уязвленным самолюбием):
— Эти грязные христопродавцы так и лезут повсюду! — воскликнул привратник.
Андреас не сразу понял, о чем идет речь и за кого его принимают. Но быстро понял и не ощутил ни унылой растерянности, ни досады, ни злобы, а только ответил с достоинством:
— Я такой же христианин, как и ты. И поэтому пойди, добрый человек, и скажи о моем приходе. Я — Андреас Франк, ювелир, мне велено прийти сюда.
Андреас говорил с таким достоинством и в то же время так доброжелательно, что и привратник вдруг почувствовал себя и вправду тем, кого принято называть «добрым человеком», почувствовал себя человеком почтенным и уважаемым, которому и в голову не придет мучить других болезнью своего уязвленного самолюбия, потому что уязвленного самолюбия у него нет. Но какое-то давно уже неведомое чувство смущения все же помешало ему заговорить с этим юношей по-доброму.
— Жди здесь. Сейчас пойду скажу, — хмуро и смущенно и быстро произнес привратник.
Затем он ушел. Андреас остался ждать его и вдруг стал думать о том, не унижает ли косвенно его приятелей и родных из еврейского квартала то, что он сказал этому грубому человеку: «Я такой же христианин, как и ты», и еще и назвал его «добрым человеком»… Но ведь в глубине своей души самый отчаянный злодей чувствует себя добрым, пусть хотя бы по отношению к самому себе. И самая черная душа жаждет, хочет, чтобы озарил ее светлый свет доброго имени, и это важнее, чем даже хлеб. И, должно быть, потому Христос и сказал Марфе, что она печется о многом, а ему одно лишь нужно. Это одно — разве это не есть бескорыстная доброта не для телесных нужд, а для души? Разве это не есть преодоление в себе досады и злобы и признание достоинства и доброты в том, кто стоит напротив тебя?.. Тут Андреас подумал, что в еврейском квартале Михаэль сказал бы, например, очутившись в сходной ситуации: «Я такой же правоверный иудей, как и ты»… Но тогда… все то, что именуется христианством или иудейством, это… это, в сущности, лишь разделяет мелочно… А есть определенные стремления к добру и злу, определенные свойства, и все они одинаковы у всех людей, ведь и тела у всех людей, в сущности, сходны, и у каждого есть сердце… Но почему людям свойственно отделяться друг от друга множеством мелочных ограничений, законов и правил? Вот птицы собираются в стаи… Но у каждой породы птичьей одна птица сходна с другими птицами своей породы и не сходна с птицами иной породы телесно… Но люди все телесно сходны… А тоже собираются в стаи, и нужно им чувствовать, чтобы рядом, неподалеку жили еще другие людские стаи, и чтобы все эти стаи враждовали друг с другом, стая людская — с другой людской стаей, и человек — с человеком… Человеку, чтобы жить полно и сильно, нужна вражда; нужно, чтобы он чувствовал, что его ненавидят, и сам бы ненавидел…
Вдруг эти мысли показались Андреасу кощунственными. Он быстро дважды перекрестился и быстро прочел вполголоса «Pater noster»[4]. А когда привратник распахнул дверь и вышел давешний слуга, Андреас как раз дочитал молитву и успел вдруг подумать, что ему-то, Андреасу, не нужна вражда, ему хорошо было бы и в доброте всеобщей, она бы никогда ему не наскучила…
Слуга велел Андреасу идти в дом следом за ним. Они быстро прошли прихожую и вошли в небольшую комнату, где были только стол, один стул да широкий шкаф, дверцы которого были заперты на ключ, это было видно. На стене Андреас заметил ковер без ворса, на котором были вытканы сражающиеся рыцари, и еще рыцари, преследующие бегущего оленя. Но внимательно рассмотреть ковер Андреас не успел, потому что в комнату тотчас вошел управляющий городским имуществом Гогенлоэ. Это был человек пожилой и тоже одетый в цвета Гогенлоэ. Он заговорил с Андреасом высокомерно, но не враждебно. Он снял с кольца на поясе связку ключей и самым маленьким отпер шкаф. Из шкафа он взял небольшую деревянную шкатулку, гладкую, темного дерева. Поставил ее на стол, сам сел на стул и велел Андреасу открыть шкатулку, слугу же отослал взмахом руки.
Андреас наклонил голову, открыл шкатулку, откинув крышечку, и увидел внутри, на вишневом бархате, четыре золотых кольца. Они сразу сделались ему интересны, с первого взгляда на них. Однако он не взял их в руки, а поднял голову и вопросительно посмотрел на управляющего. Тот пристально смотрел на шкатулку и на руки Андреаса.
— Хорошо, мальчик, — сказал управляющий. — Ты или очень честен или искусный мошенник. И кажется мне, что скорее первое, нежели второе. В твоих пальцах я не подметил даже и тени того, что зовется дрожью алчности. Мой господин хотел бы заказать тебе переделать эти кольца…
— Могу я взять их в руки? — быстро и спокойно спросил Андреас.
— Можешь. Я вижу: твое нетерпение — нетерпение мастера, а не вора.
Андреас осторожно брал кольца и снова клал их в шкатулку.
— Это очень древняя восточная работа, — произнес он певуче и задумчиво. — Должно быть, они передаются из рода в род…
— Не так уж давно и передаются, — сказал управляющий и как-то странно усмехнулся. — Прадед нынешних Гогенлоэ привез их из своего последнего крестового похода… Это уж когда было… Теперь и рыцарей таких нет. И Королевство Иерусалимское перестало существовать…
Андреас посмотрел на него. Брови мальчика чуть сдвинулись напряженно на миг, и после стало на миг ясно заметно, что эти ровные темные дужки бровей соединены смутно на переносице едва различимой обычно полоской, смутной и изящно изогнутой. Управляющий покачал головой.
— И камни теплые… — тихонько, напевно говорил Андреас. — Альмандин… топаз… аметист… вот филигрань… узор такой тонкий… — И вдруг он, положив кольцо в шкатулку и посмотрев в последний раз, будто хотел увериться, что кольца уложены хорошо, произнес решительно. — Я не возьмусь переделывать эти кольца. И дурно поступит мастер, который за такое дело возьмется. Это слишком древняя работа, она ценна именно своей древностью. Так и скажите господину.
— Я передам ему твои слова, — управляющий снова посмотрел на Андреаса и улыбнулся странной улыбкой. — Я вижу: ты честен и хороший мастер. Я хочу тебе кое-что показать. Пойдем со мной.
Он поставил шкатулку в шкаф и запер шкаф на ключ. Андреас подумал, что, вероятно, Гогенлоэ очень доверяют этому человеку, он держится совсем как хозяин.
Следом за управляющим Андреас вышел из комнаты. Управляющий и комнату запер на ключ.
Они прошли по темному коридору, поднялись по узкой винтовой лесенке. Дверь не была заперта. К стене в комнате этой был прикреплен серебряный подсвечник, горели ярко две свечи; окно было плотно занавешено тяжелым занавесом. Пахло душно и душисто. Не было никакой мебели, только большой плотный ковер на полу и тут же брошенные вышитые плотные подушки. Андреасу сделалось немного не по себе. В сущности, еще никогда в жизни он не оказывался так во власти другого человека…

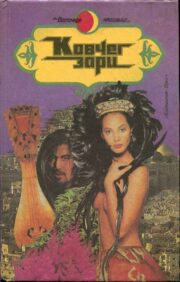
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.