Человек был в коричневом длинном кафтане, шапка темная остроконечная с маленькими круглыми твердыми полями. Черезплечная темная сумка на ремне брошена была в траву. Сам человек был худой, светло-рыжеволосый, видно было; и с такой мелко вьющейся светло-рыжей бородой. Глаза у него были голубые и смотрели сумрачно. Такой формы бороды и такие сумрачные, исподлобья, взгляды Андреас уже видал в еврейском квартале. Он подумал, что этот человек — иудей. Андреас знал, что и его, Андреаса, отец — крещеный иудей. Но это было простое знание, о котором он мало думал, и не видел в том, о чем знал, ничего противоречивого, и ничего пугающего не видел… Но эта мгновенная мысль об отце вызвала мучительный приступ такой болезненной тоски, такой обиды и беспомощности. Андреас чувствовал, что обижен отцом, но не мог понять, за что обижен. И чувствовал, что обижен несправедливо. И от этого делалось ему так тоскливо и больно… Вот и сейчас все его существо готово было к тому, чтобы не воспринимать происходящее, забыться и горько заплакать. Андреас едва сдерживал себя… Неловко ему было заплакать перед чужим человеком… Никакой опасности для себя Андреас даже и не успел почувствовать…
Человек тотчас понял, что замахнулся ножом всего лишь на мальчика; и если и есть какая-то опасность, то это опасность убить или ранить этого мальчика. Но чувствовался определенный навык — человек не отшвырнул свой нож, как чужую оловянную чашку, но быстро нож исчез как-то в поясе. Андреас даже не отскочил, не отпрянул; а словно бы ему стало интересно, занятно от этого блеска лезвия, соотнесенного мгновенно с быстрым легким плеском светлой воды. Лезвие было направлено на него, на то, чтобы ударить его, в его тело было направлено. Но он этого не почувствовал.
— А-а! Малхамувес! — воскликнул человек угрюмо и с какой-то злой усталостью. — Так бы я заколол тебя…
Андреас улыбнулся, услышав слово протяжное, чуть гортанное и какое-то придыхающее. Так улыбаются дети, когда слышат громко произносимые взрослыми, но для детей запретные, непристойные или бранные слова.
— «Малхамувес» — это «дьявол», — мальчик снова быстро улыбнулся. Он не мог отказать себе в удовольствии произнесения запретного слова. Он слышал, так ругались в еврейском квартале. Но тотчас лицо его сделалось серьезным, он быстро перекрестился.
Человек глянул на него хмурым, пытливым и цепким взглядом.
Но мальчик, с этой внезапной своей, вдруг ясно и открыто проявляющейся чуткостью, уже знал, что это человек нестрашный и не такой, каким хочет казаться, а, в сущности, добрый, чувствительный и занятный. Андреас шагнул вперед, поднял свою откатившуюся в траве чашку и бережно поставил ее между большими, выступившими из темной земли корнями большого дерева.
— Я нашел этот родник. И чашку принес, чтобы пили, — коротко и дружелюбно сказал мальчик, но не гордясь, а просто как бы объясняя, почему он и сейчас позаботился о чашке.
— Заколол бы я тебя, — пробурчал человек, растягивая слова, будто говорил наизусть какой-то стих. — Заколол бы, не дай Бог, и меня обвинили бы в убийстве христианского младенца… Ха!.. — и он иронически прихрипнул…
И говоря эти слова, он наклонился, ухватил свою сумку за ремень, подтянул к себе, открыл, вынул белую лепешку с творогом и протянул Андреасу.
Только сейчас, увидев перед собой еду, Андреас почувствовал, что голоден. Ведь он рано-рано утром ушел натощак. Он взял лепешку, откусил, сказал:
— Благодарю вас.
И снова откусил.
И по-детски быстро жуя, спросил:
— Почему?
Было просто понять, и незнакомец понял, что мальчик спрашивает, почему обвинили бы в убийстве.
— Потому! — незнакомец сел на траву, подняв колени под полами кафтана. — Потому что иудеев обвиняют в подобных делах. Любят обвинять. Особенно, когда пограбить надо, так сразу и обвиняют… И ты не слыхал таких обвинений?
— Нет, — искренне отвечал Андреас. Он и вправду не слыхал.
— Странно! — угрюмо-насмешливо сказал незнакомец. — С такой мордой и не слыхал…
Но мальчик не обиделся на эту грубость. Он уже ясно ощутил незащищенность своего случайного собеседника, и то, что от этой незащищенности, чтобы почти неосознанно прикрывать ее, были и жесткость и ирония. Андреасу уже хотелось успокоить его…
— Мой отец — иудей… был иудеем… — быстро, с легкими запинками произнес Андреас.
Произнесение слов об отце снова причинило, вызвало боль.
Собеседник мальчика чуть расслабился, настолько, чтобы не стыдиться своих чувств добрых.
— Лицо у тебя… — это прозвучало глухо и серьезно. Он не договорил и повел ладонью мимо своих глаз. Ведь это перед ним была не морда зверя, но удивительной красоты человеческое лицо с прекрасными темными живыми и сияющими глубиной миндалевидными огромными глазами. И нельзя было оскорблять это лицо грубым прозванием звериной морды. Но человек и стеснялся сказать словами о красоте этого лица, будто после произнесенных вслух восторженных слов красота эта сделалась бы совсем беззащитной…
— Меня зовут Элеазар из Бамберга, — снова с хмурой ворчливостью сказал человек.
Андреас стоял перед ним и ел лепешку. Андреас мило и открыто поторопился ответить на вопрос, который Элеазар из какого-то странного смущения медлил задать.
— Я — Андреас Франк. Я там живу, — мальчик вскинул тонкую руку и указал в сторону города.
— Франк! — Элеазар заинтересовался. — Я слышал… Ты не родственник Элиасу Франку?
По интонациям собеседника Андреас понял, что о его отце тот слышал и думает хорошее. Это тоже было больно. Если бы об отце говорили дурное, Андреас жертвенно и радостно признавал бы себя его сыном, вставал бы на его защиту. Но об отце говорили хорошо. И было как-то неловко признавать себя сыном такого человека, было в этом какое-то самозванство, ведь отец покинул Андреаса; и не то чтобы открыто не признавал, но это равнодушное небрежение было мучительнее открытого злого непризнания. Но все равно сейчас незачем было, и не нужно, скрывать правду.
— Это мой отец, — Андреас сказал быстро, но пока говорил, все равно нахлынула на него вся эта мука, и он больно чувствовал себя самозванцем и скверным лжецом.
Он тоже настолько расслабился, что не мог больше сдерживать слезы, быстро повернулся, и припав лбом к стволу дерева, опираясь ладонями опущенных рук о шершавую кору, крупно-извилистую, заплакал горестно и беззащитно.
Элеазар быстро поднялся на ноги, схватил мальчика за плечи, оторвал от дерева, повернул к себе и прижал сильными руками его голову к своему жесткому суконному кафтану. Он хотел было сказать немного насмешливо, как ему было свойственно, что уж лучше реветь, уткнувшись в кафтан, чем в ствол дерева, по крайней мере не так жестко; но понял, что может обидеть такого ранимого мальчика, и не говорил ничего.
Андреас прижимался к человеку, который искренне и неунизительно пожалел его, прижимался и говорил сквозь всхлипывания бессвязно:
— Лучше бы он умер!.. Что я говорю, что?.. Я грешник… всегда… так плохо!..
Элеазар начал его успокаивать обычно, гладить по голове. Они опустились рядом на траву, сидели. Андреас говорил быстро об отце, о матери, о роднике, о своем ощущении Бога, о монастыре… Элеазар понял, что это незаурядный, одаренный мальчик; понял и об отце, и про себя осудил такого отца, но вслух ничего не сказал, понимая, что этим обидел бы мальчика. И продолжал его успокаивать, проводя крепкой, корявой и тяжелой ладонью по черному ежику на выпуклом детском затылке. Затем он понял, что пришло время развлечь мальчика, отвлечь интересным каким-то рассказом; уже довольно мальчик наплакался, не надо больше изнуряться слезами; пора и вправду почувствовать, что бурный плач принес облегчение, и успокоиться.
— А что же ты не спрашиваешь, кто я? — сам спросил Элеазар теплым голосом.
— Кто вы? — послушно спросил мальчик, и голосок его уже начал очищаться от хрипоты рыданий.
— Я далеко-далеко иду… Если бы ты знал!..
В те времена, и раньше, и позднее, дальнее путешествие и было путем наугад. Предпринималось это для торговли или для паломничества, все равно это было путем наугад, почти куда глаза глядят, в предугадании, предвкушении совсем неведомых земель, даже если цель и была определена.
Элеазар шел в Иерусалим, в святые места, где некогда Господь невидимый являл себя Моисею и Аврааму. Об этом своем желании увидеть эти святые места, вдохнуть их воздух, испытать чувство вознесения, возвышения; об этом своем желании Элеазар из Бамберга, пожалуй, не стал, не мог бы никому рассказать, не хотел никому показываться восторженным и наивным. Но этому ребенку можно было это рассказывать…
Зазвучали звучные имена земель и неведомых стран — Туле, острова Эбудийские, Смирна, Родос, Напата, Сиена, Мероэ, залив Адулитский, Тапробана… И светлый сердцу паломника-иудея Иерусалим с его чудесами святыми…
И, конечно, случилось то, что должно было случиться, но увлеченный своими красивыми словами, Элеазар совсем забыл, что именно это и должно было случиться…
— Возьмите меня с собой! — горячо попросил Андреас. — Все равно… — жалость к матери, уже смутная, не дала договорить. Но возникла, вспыхнула такая насущная необходимость, потребность всего его существа уйти, уйти, уйти… Далеко…
Элеазар словно бы вернулся с небес на землю. Он знал, что не может взять с собой этого мальчика, у которого живы отец и мать. Дорога опасная и долгая, и нельзя подвергать ребенка таким опасностям, хотя лучшего спутника трудно пожелать себе. Но вместо того, чтобы просто указать мальчику на его долг: не покидать одинокую мать, Элеазар, и сам не знал, почему, сказал:
— Но как же это мы пойдем вместе? Я иудей, а ты христианин. Я не стану обращаться в христианство, и ты, вряд ли решишься стать иудеем.
Андреас даже немного побледнел, побледнели его смуглые от природы щеки. Все его существо, напряженное в этом отчаянном желании уйти, уйти далеко, не могло принять, воспринять отказ. Он почти не задумывался над своим ответом, и ответил быстро, едва справляясь с этой внутренней дрожью, не давая ей переплеснуться, выбиться в эту внешнюю телесную больную дрожь, дрожание пальцев, и рук, и всего тела; и ответил:

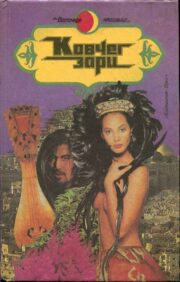
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.