Мирабу поспешил прервать его, чтобы закончить мысль царя:
— И еще воля небес, мой господин.
Фараон насмешливо покачал головой.
— А что такое воля небес, Мирабу? — спросил он. — Она тоже не что иное, как власть.
Архитектор возразил:
— И милосердие, и любовь, ваше величество…
Царь усмехнулся:
— Так устроены вы, люди творчества! Вы приручаете непокорные камни, но в то же время ваше сердце податливее утреннего ветра. Однако мне недосуг спорить с тобой. Лучше ответь мне на вопрос и можешь покинуть мой дворец. Итак, Мирабу, в течение десяти лет ты общаешься с толпами мускулистых рабов. Ты уже должен был бы проникнуть в их самые потаенные секреты и угадывать, какие мысли зреют в их тупых головах. О чем они говорят? И что же, по-твоему, заставляет их подчиняться мне и выдерживать ужасы столь тяжкой работы? Поведай мне всю правду, Мирабу.
Архитектор на мгновение задумался, вызывая в памяти воспоминания. Все смотрели на него с нескрываемым интересом. Потом неторопливо, в своей обычной манере, исполненной страсти и хладнокровия, он ответил:
— Рабы, вернее рабочие, мой господин, поделены на два лагеря. Один из них состоит из пленных и иностранных наемников. Они не знают, в чем смысл их труда: приходят и уходят без всяких возвышенных чувств, подобно волу, который бездумно крутит колесо, подающее воду. Если бы не жесткий кнут и не бдительный надзор наших солдат, проку от них и вовсе не было бы. У них действительно тупые головы — ни взоры, ни разговоры их умом не блещут. Да они и молчат в основном.
Мирабу помолчал и продолжил:
— Что же касается египтян, то это в основном выходцы с юга. Эти люди обладают чувством собственного достоинства, гордостью, упорством и непоколебимой верой. Они способны выносить страшные мучения и спокойно переживать сокрушительные трагедии. В отличие от чужеземцев, они прекрасно осведомлены о том, что делают. В своих сердцах они верят, что тяжелый труд, которому они посвятили свою жизнь, — это славная религиозная обязанность, долг перед божествами, форма послушания тому, кто восседает на троне. Злоключения для них — это благоговение, эйфория и наслаждение. Их огромные жертвы — знак подчинения воле божественного человека, который простер себя над бесконечным временем. Мой господин, разве вы не видите, как на пылающей полуденной жаре, под обжигающими лучами солнца они раскалывают камни, подобно молнии, и с решимостью, подобной судьбе, распевают свои ритмичные песни и слагают стихи?
Слушатели были восхищены образной речью архитектора и в порыве экстаза и радости принялись аплодировать. Мужественное лицо фараона просияло. Он был доволен. Хуфу повелел всем встать и сам поднялся с ложа. Размеренной, полной достоинства поступью он подошел к южному краю широкого балкона. В бархатном небе, отражаясь в водах Нила, плыла полная луна, мириады звезд усыпали черный бархат небосвода. Наслаждаясь чудесным видом, Хуфу вглядывался в простиравшиеся вдаль очертания плато мертвых, на святой земле которого в свете луны виднелись длинные цепочки силуэтов. Какая грандиозность, какое великолепие! И какие страдания и усилия! Было ли правильно лишать жизни столько достойных душ ради личного возвышения? Мог ли он управлять подобным образом таким благородным народом, чьим сокровенным желанием было счастье своего царя?
Внутренний шепот был единственным беспокойством, порой пробивавшимся в его груди, преисполненной бесстрашия и веры. Шепот этот казался ему похожим на одинокую звездочку, мерцавшую вдали. Что-то ее, видно, тоже беспокоило, и эта мысль доставляла фараону мучения. Внутри все еще сильнее сжалось, и собственные безмятежность и блаженство стали ему вдруг омерзительны. Боль сдавила грудь. Фараон резко повернулся спиной к плато и с гневом обрушился на своих друзей:
— Скажите же мне, кто должен отдать свою жизнь и ради кого? Народ за фараона или фараон за народ?
Присутствующие лишились дара речи, но через минуту командующий Арбу нарушил молчание. Его голос звучал взволнованно:
— Все мы — народ, солдаты и жрецы — отдадим свою жизнь за фараона!
Принц Хорсадеф, один из младших сыновей царя, с пылким чувством добавил:
— И принцы тоже!
Царь улыбнулся, и с его благородного лица исчезла тревога. Визирь Хемиун сказал:
— Мой господин, ваше богоподобное величество! Зачем отделять великодушного себя от народа Египта? Это равносильно тому, как если бы душу отделять от тела. Вы, мой господин, символ чести и возвышенности египтян, цитадель их силы, вдохновение их духа. Вы наделили их жизнью, процветанием, могуществом и радостью. В их привязанности к вам нет ни унижения, ни раболепства, только искренняя преданность и почтенная любовь к своему правителю и своей родине.
Царь был очень доволен тем, что услышал, и широким шагом вернулся к своей позолоченной софе, но принц Хафра, наследник престола, еще переживал по поводу недавних опасений отца.
— Зачем ты нарушаешь свое душевное спокойствие такими пустыми сомнениями, отец? — спросил он. — Ты правишь согласно воле богов, а не желаниям народа. Ты сам, только ты, решаешь, как поступать со своими людьми, и не должен спрашивать себя, что тебе делать, когда они задают тебе этот же вопрос!
— О мой сын! Неважно, насколько другие цари превозносят себя. Твоему отцу довольно сказать: «Я фараон Египта», — ответил Хуфу, облокотившись на подушки. — Речь Хафры была бы к месту, если бы мой сын говорил это слабому правителю, а не всемогущему Хуфу — Хуфу фараону Египта. И что такое Египет, как не величайшая работа, за которую нельзя было взяться, не пожертвовав людскими жизнями? И какова ценность жизни одного человека? Она не стоит и высохшей слезы того, кто смотрит далеко в будущее и ставит перед собой грандиозные цели. Ради этого я без малейших колебаний буду проявлять жестокость. Я буду карать твердой рукой и обрекать сотни и тысячи на невзгоды и лишения — не из-за собственной глупости или деспотичного эгоизма, но потому, что мои глаза способны заглянуть за пелену горизонта и узреть славу и великолепие нашего отечества. Царица много раз обвиняла меня в жестокости и угнетении народа, но это не так, ибо кто же Хуфу, как не провидец и мудрец, одетый в шкуру пантеры, в груди которого бьется сердце распростершего объятия ангела?
Вновь воцарилась тишина. Многие его подданные в мыслях уже были дома, а кое-кто из них мечтал, что фараон, прекратив эти словоизлияния, устроит для гостей ночные забавы или пригласит на пиршество с возлияниями и песнями. Некоторые, устав, стали откровенно зевать, прикрывая рот ладонью. Но в эти часы отдыха и тоски Хуфу не радовали ни дворец, ни его невероятные красоты. Почувствовав, что присутствующие жаждут есть и веселиться, он поскучнел и обвел своих друзей взглядом, словно изумляясь тому, что они еще здесь. Хемиун осмелился задать вопрос:
— Наполнена ли напитком чаша моего господина?
Фараон кивнул:
— Я пил сегодня так же, как пил вчера.
— Может быть, позвать музыкантш?
— Я слушаю их музыку днями напролет, — равнодушно пожал плечами фараон.
— А что мой господин думает о поездке на охоту завтра поутру? — не унимался Мирабу.
— Я сыт по горло погонями, будь они на суше или на воде.
— Тогда как насчет прогулки по ночному саду?
— Остались ли в этой долине красоты, которых я еще не видел?
Грусть царя опечалила его преданных слуг — всех, кроме принца Хорджедефа, приготовившего для отца восхитительный сюрприз, о котором фараон даже не догадывался.
— О царь, отец мой! — сказал Хорджедеф. — Если пожелаешь, я могу привести сюда замечательного чародея, познавшего секреты жизни и смерти. Он способен удивить тебя. Стоит тебе захотеть, чтобы появилось нечто необычное, — он хлопнет в ладоши, скомандует, а затем это нечто явится перед твоими очами.
Хуфу, приподнявшись на ложе, с любопытством воззрился на своего среднего сына. Его интересовало все, что относилось к магам, волшебникам и их чудесам, он как ребенок поражался рассказам об их редкостной хитрости и изобретательности. Обрадовавшись тому, что сможет увидеть такого человека собственными глазами, он спросил сына:
— Кто же этот чародей? Как его имя?
— Этого волшебника зовут Джеди, отец. Ему сто десять лет, но он до сих пор еще силен как юнец. Он обладает невероятным умением подчинять своей воле людей и животных и таким зрением, которое может пронзить завесу незримого.
— Ты можешь привести его ко мне сейчас? — спросил фараон. Его грусть и апатия вмиг испарились, лицо оживилось.
— Пожалуйста, подожди немного, отец! — радостно ответил Хорджедеф. Едва поклонившись Хуфу, принц выбежал из зала.
2
В ожидании все молчали, повернув головы к нише, куда убежал принц. Наконец на мраморных плитах раздались шаги, и в зале появился высокий широкоплечий человек. Взгляд его жгучих черных глаз словно пронзил всех присутствующих. Мягкие седые волосы вошедшего ниспадали на плечи, загорелое лицо обрамляла длинная густая борода. Он был облачен в свободное одеяние и при ходьбе опирался на грубую массивную трость.
Принц Хорджедеф, выйдя из-за спины незнакомца, поклонился и объявил:
— Отец мой! Представляю тебе твоего покорного слугу, чародея Джеди.
Волшебник пал перед царем ниц и поцеловал подушку, на которой покоились ноги Хуфу.
Громким голосом, от которого все вздрогнули, он сказал:
— Мой господин, сын Хнума, свет восходящего солнца и правитель миров, да восславится имя твое, и да будет тебе вечное счастье!
Фараон дружелюбно посмотрел на чародея и спросил:
— Как вышло, что я не встречал тебя, хотя ты появился в этом мире лет на семьдесят ранее меня?
Престарелый волшебник вежливо ответил:
— Да дарует тебе Бог долгую жизнь, здоровье и силу. Подобные мне не должны являться перед тобой, если их не просят об этом.

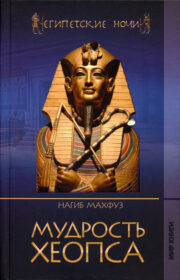
"Мудрость Хеопса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мудрость Хеопса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мудрость Хеопса" друзьям в соцсетях.