Через некоторое время часы в вестибюле пробили девять. Их бой отозвался эхом в затянувшейся тишине утренней столовой.
— Отец, вы позволите мне выйти из-за стола? — спросила Элизабет, собираясь встать.
Герцог посмотрел на нее.
— Что вы намерены делать сегодня, дочь моя?
Элизабет быстро ответила:
— Я хотела уделить некоторое время вышивке и писанию писем, а потом мы с матушкой должны поехать к модистке на примерку.
Герцог улыбнулся удовлетворенно.
— Великолепно. Вы весьма упорно трудитесь над этой вышивкой, Бесс. Она должна получиться очень хорошо. Мы ее когда-нибудь увидим?
Элизабет на мгновение посмотрела на Изабеллу. Девушки обменялись понимающими взглядами.
— Когда она будет закончена, папа, не раньше.
Герцог усмехнулся, глядя на жену:
— Маргарет, наша Бесс во всем любит совершенство. Совсем как ее отец. — Он махнул рукой. — Ну, ступайте, детки. Пользуйтесь утренним солнышком.
Элизабет встала из-за стола.
— Благодарю вас, сэр, я так и сделаю.
Вскоре Элизабет уже запирала на ключ свою спальню, чтобы ей никто не помешал. Потом она повернулась и окинула взглядом комнату. Большие двойные окна были раскрыты настежь, и яркий свет утреннего солнца вливался в комнату сквозь бледные дамасковые занавеси и сиял на недавно отполированных стенных панелях, придавая им янтарный блеск. Украшенный изящной резьбой гардероб розового дерева стоял в углу, набитый бесчисленными платьями из атласа и шелка. На туалетном столике выстроились пузырьки с духами, привезенными с далекого Востока. На полу лежал драгоценный персидский ковер, кровать была задрапирована занавесями из прекрасной парчи, а матрас набит мягчайшим гусиным пухом, какой только можно было сыскать в Англии. Стоило ей позвонить — и сбежалось бы целое войско слуг. Да, Элизабет от рождения принадлежала к привилегированному классу, но привилегии эти дорого стоили.
Девушка подошла к окну, где стоял диванчик с подушками, среди которых лежала ее корзинка для рукоделия. Она вынула из нее кусок холста, натянула на деревянные пяльцы и вытащила воткнутую с краю иголку. Некоторое время она задумчиво рассматривала вышивку, потом воткнула в ткань иголку и сделала несколько превосходных стежков. Вот, подумала она, отводя вышивку от глаз и восхищаясь тем, что получилось. В конце концов, сказала же она отцу, что собирается вышивать…
Элизабет отложила вышивку, отошла от окна и опустилась на стул у письменного стола. Там она просидела некоторое время, подперев рукой подбородок и глядя на роскошный цветник, который простирался от ее окон до яблоневого сада.
Раннее утро обещало смениться чудесным летним днем. Цвели розы, насыщая ароматами легкий ветерок, ласково качающий верхушки деревьев. Звучал хор птичьих голосов, которому аккомпанировала Кэролайн, приступившая к занятиям на клавикордах внизу в гостиной. Вдали, на роскошном зеленом выгоне паслись лошади, сверкая на солнце темными крупами. Впрочем, Элизабет почти ничего этого не замечала. Безмятежность и красота летнего дня, музыка — ничто ее не трогало. В голове ее отдавались негодующие слова отца, сказанные им за завтраком.
«Нелепица…»
«Глупость…»
«Равенство мужчины и женщины! Вы когда-нибудь слышали подобный вздор?»
Как бы сильно ни любила она отца, какое бы восхищение и уважение ни вызывали у нее его доброта и крепкая любовь к жене и дочерям, временами он казался ей просто допотопным. Как будто герцог пробудился этим утром, проспав перед завтраком несколько столетий. Почему? — спрашивала себя Элизабет не в первый, не во второй и даже не в двадцатый раз. Почему он дал ей и сестрам наилучшее образование, которое доступно людям их положения, а теперь не дает им воспользоваться его преимуществами? Неужели только для того, чтобы похваляться этим, сидя за бренди с друзьями, как похваляется он резвостью своей верховой лошади или сообразительностью любимой гончей?
Но хотя Элизабет и размышляла об этом, ответ ей был известен. Пусть ее способности говорить и писать на разных языках или с легкостью подсчитывать в голове колонки цифр новы и необычны, но мир, в котором она живет, в основном управляется мужчинами… — и он их вполне устраивает.
Но это еще не значит, что ее он тоже должен устраивать.
Сунув в боковой замок своего секретера маленький ключик, который она втайне носила на цепочке у себя на груди, Элизабет нажала на фальшивое днище под средним ящиком. Она вынула оттуда небольшую стопку бумаги, пролистала ее, нашла то, что искала, и прочла заглавие.
«Письмо в защиту равенства женщины с мужчиной… написанное некоей знатной леди».
Элизабет улыбнулась. Это одно из ее самых удачных произведений. Она подозревала об этом с того дня, как представила в редакцию статью для публикации. Сегодняшний гнев отца и ажиотаж, явно произведенный ее опусом в Лондоне, только подтверждали это.
Отложив в сторону рукопись, Элизабет вынула из ящика экземпляр «Наблюдательницы». В отличие от номера, который был брошен в огонь за завтраком сегодня утром, этот был двухгодичной давности, и его читали и перечитывали столько раз, что края обтрепались и порвались. Стояло радостное летнее утро, совсем как сегодняшнее, когда Элизабет, сидя в корбриджской библиотеке, где выдавали книги на дом, случайно наткнулась на одну статью в этом журнале. Внимание ее привлек заголовок, но очень скоро ее очаровала искренность самой статьи.
«Слышанные мной от многих мужчин возражения, что образование сделает нас слишком самоуверенными, само по себе неубедительно и несправедливо, потому что ничто, кроме знаний, не избавит нас от праздности и суеты, в которых нас обвиняют…»
Наконец-то, подумала она тогда, вот журнал, осмеливающийся предоставлять свои страницы женщинам, которые не боятся высказать убеждения, долгие годы хранившиеся под спудом. Элизабет купила тогда номер этого журнала и прочла его от корки до корки, а потом сидела допоздна, сочиняя хвалебное письмо издательнице, мисс Элайзе Хейвуд, популярной романистке и автору пьес. К сожалению, большую известность этой особе принесло то, что она оставила своего мужа, который дурно с ней обращался, нежели ее литературное дарование.
За сим последовала переписка, превратившаяся в дружбу между двумя одинаково мыслящими женщинами, происходившими из совершенно разных слоев общества. Наконец-то Элизабет узнала, что такое общность взглядов, и получила подтверждение мыслям и мнениям, которые обрела по мере своего взросления. И вот однажды Элизабет получила предложение принять участие в журнале, написав что-то свое, анонимно, разумеется, потому что если бы обнаружилось, что дочь одного из самых знатных вельмож Англии проповедует подобные идеи, разразился бы ни с чем не сравнимый скандал.
Поначалу Элизабет всего лишь намеревалась написать простое исследование ущерба, происходящего от того, что женщин не допускают в те же научные сферы, что и мужчин. «Почему, — письменно вопрошала она, — почему все считают, что женский интеллект лучше удовлетворяется выбором ленточки для волос или размышлениями о том, куда лучше положить стежок на вышивке, чем занятиями философией либо историей?» За этим рассуждением последовало второе, а потом, прежде чем Элизабет спохватилась, и другие, и в конце концов получилось, что она стала писать развернутые «Письма знатной леди» по поводу каждой удачной публикации в журнале.
Элизабет взяла чистый лист бумаги и приготовилась сочинять очередное письмо в журнал. Прежде чем обмакнуть перо в чернила, она на мгновение задумалась, мысленно возвращаясь к сцене, разыгравшейся сегодня за завтраком.
«Что вы намерены делать сегодня, дочь моя?»
Элизабет начала писать своим изящным аккуратным почерком:
«Письмо знатной леди, протестующей против того, что молодых женщин заставляют сидеть за рукоделием…»
Глава 2
Месяц спустя…
Дорожная карета Сьюдли катилась, подпрыгивая, по ухабистой нортумбрианской дороге. Над развалинами Адрианова вала нависла темная мгла. Небо было затянуто облаками, не пропускавшими солнечного света, а ветер только слабо шевелил высокий болотный тростник, отчего казалось, будто карета плывет, подхваченная дыханием дремлющего дракона из старой сказки, который прячется среди пустынных, поросших вереском холмов.
В экипаже сидели Элизабет и Изабелла; снаружи их охраняли два самых надежных вооруженных телохранителя герцога — огромные горы мускулов и мяса, именуемые Тайтусом и Манфредом. Конечно, имелся еще и кучер Хиггинс, но в нем не было ничего угрожающего, поскольку росту в нем было всего лишь пять футов, а весу — десять стоунов[2] вместе с сапогами. В то утро они пустились в дорогу поздно и остановились только один раз, чтобы дать отдых лошадям, а сами с удовольствием позавтракали хлебом, ветчиной, сыром и терпкими яблоками из сада Дрейтонов, которыми снабдила их герцогиня. Уже смеркалось, когда они приблизились к северной границе Англии, где им предстояло провести ночь в придорожном постоялом дворе. Если все пойдет, как было задумано, завтра в этот же час они доберутся до цели своего путешествия — имения их вдовствующей тетки Идонии.
Там-то Элизабет и начнет отбывать наказание по-настоящему.
— Не могу поверить, что все это случилось, — пробормотала девушка. Она прислонилась головой к прохладной оконной раме, и когда заговорила, от ее дыхания оконце запотело.
— Можно было ожидать, что отец в конце концов узнает правду об этих письмах, Бесс, — сказала сидевшая напротив Изабелла. — Это было всего лишь делом времени.
Почти те же слова произнес их отец, когда несколькими днями ранее неожиданно вызвал к себе в кабинет Элизабет.
— Обманут! Осмеян! И кем! Собственной дочерью!
От кипевшего в нем негодования задрожали пузырьки с чернилами на письменном столе.
— Вы, Элизабет Реджина, и раньше позволяли себе разные выходки, но это?! И, что еще хуже, как могли вы подумать, что я ничего не узнаю?

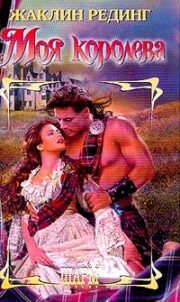
"Моя королева" отзывы
Отзывы читателей о книге "Моя королева". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Моя королева" друзьям в соцсетях.