Лине смотрела на лорда Гийома, а глаза застилали слезы. Он в задумчивости поджал губы, медленно раскачиваясь взад и вперед на носках. Сейчас он очень походил на ее отца — грозный и требовательный внешне, а в душе — мягкий и добросердечный. Даже сейчас, несмотря на все доказательства, казалось, он хотел поверить ей.
Лине могла его убедить. Она знала о лорде Окассине такие вещи, которые не были известны ни одной самозванке. Кроме того, ее доказательством была ее внешность — у Лине были глаза отца. Она обладала всеми знаниями о своем фамильном древе. И еще за ней стояла Гильдия. Собственно говоря, на это могло уйти много времени, но правдивость ее происхождения можно было доказать.
Ну и что это ей даст? Она сможет доказать, что является настоящей Лине де Монфор. Но как это поможет сохранить честь отца и сдержать данное ею обещание, если она не заявит, что цыган изнасиловал ее без ее согласия? А если она скажет, что его крестьянские руки осквернили ее благородную особу против ее желания, то разве она не приговорит его тем самым к смерти?
Она закрыла глаза. Простого ответа не было. Она должна выбирать: будет ли она цепляться за свое происхождение или уступит велению сердца? Эту дилемму невозможно было решить так, как она привыкла решать торговые вопросы, написав на клочке пергамента несколько цифр. Нет, она должна прислушаться к голосу сердца. Судьба оставила решение в ее руках.
Это сводило ее с ума.
Палач нетерпеливо постукивал рукояткой плети по ладони.
Лорд Гийом нахмурился и продолжал раскачиваться с пятки на носок. Толпа в ожидании перешептывалась.
Наконец заговорило сердце Лине.
Она подняла подбородок.
— Я умоляю вас, милорд, пощадить этого мужчину, потому что… потому что он не виновен в преступлении, которое вы ему приписываете. — Голос ее дрогнул. — Это моя вина.
Толпа крестьян дружно ахнула при этом признании. Лине ожидала слов своего дяди, как узник ожидает приговора. Лорд Гийом в растерянности смотрел на нее.
— Что ты говоришь? — наконец негромко спросил он.
— О милорд, простите меня, — она перевела дыхание. — Я не могу допустить, чтобы он был обвинен в том, что произошло. Это только моя вина.
— Получается, ты — не Лине де…
— Он — мой возлюбленный, — выпалила она.
— Нет! — прорычал цыган.
Толпа притихла. Лорд Гийом молча смотрел на нее, и на его лице читалась неприкрытая растерянность.
— Тебе нет необходимости защищать его, Лине, — сурово промолвил он. — Уверяю тебя, он полностью осознавал свое преступление, когда совершал его. Если ты расстроена из-за жажды крови, может быть, тебе лучше вернуться в замок.
— Нет! — выкрикнула она. — Я не оставлю его! — И добавила упавшим голосом: — Я не оставлю его снова. Я… — Она взглянула на цыгана, своего цыгана, привязанного к позорному столбу. — Я люблю его.
Шепот изумления пробежал по толпе, как ветер набегает на пшеничное поле.
— Итак, ты отрицаешь… что ты — леди Лине де Монфор? — рявкнул лорд Гийом. — Вместе с тем ты утверждаешь, что ты… любовница этого монаха?
У нее отнялся язык, когда она увидела холодное презрение на лице лорда Гийома. Но она только кивнула головой в знак согласия.
Лорд Гийом с очевидной неохотой дал знак палачу, чтобы тот отвязал цыгана от позорного столба. Потом он сунул ключ от кандалов узника в ладонь Лине.
— Тогда он твой, — прошептал он, крепко сжимая ее руку. Он порылся в кармане и вынул серебряную монету. — Мои слуги проводят тебя до гавани в Кале, на корабль, отплывающий в Англию. Монеты хватит тебе на проезд… домой. — Его усталые глаза покраснели, а подбородок задрожал, когда он заявил следующее: — Отныне ты считаешься изгнанной из этого поместья и всех земель, принадлежащих де Монфорам.
Вся тяжесть того, что она совершила, обрушилась на Лине подобно лавине. Слезы заструились по щекам, когда ее дядя повернулся к ней спиной и приготовился прижать самозванку к груди.
Она не могла смотреть на это. Зрители постепенно расходились, вполголоса выражая недовольство тем, что обошлось без кровопролития, и процессия направилась назад, к замку. Вскоре на вершине Холма Виселицы не осталось никого, кроме нее, цыгана, по-прежнему стоящего в кандалах, и полудюжины ворон, которые карканьем выражали свое недоумение отсутствием падали. Слезы у нее иссякли, и время от времени она всхлипывала. Сжимая в ладони ключ, она вытерла заплаканные глаза, медленно выпрямилась на подкашивающихся ногах, отдирая окровавленное белье от кровоточащих коленей, и повернулась лицом к мужчине, ради которого пожертвовала всем.
Благодарности, облегчения, обожания, на которые она рассчитывала, не было и в помине. Он смотрел на нее сверху вниз глазами серыми и невыразительными, как у чайки, и на губах его змеилась ухмылка, полная такого пренебрежения, что Лине отшатнулась. У нее возникло ощущение, что ее сердце вот-вот разорвется.
Дункан заставил себя смотреть поверх ее головы. Он не обращал внимания ни на кровавые пятна у нее на сорочке, ни на ее прекрасное тело, просвечивающееся под ней. Он заставлял себя думать только о ее обмане, ее предательстве, а не о цене, которую она заплатила.
Он не дурак. Скорее всего, она спасла его жизнь только потому, что боялась навлечь вечное проклятие на свою душу, если бы он умер. У этой женщины не было сердца. Он уже дважды обжегся об этот огонь искушения. Больше он не совершит подобной ошибки. Он не замечал ее глаз, ожесточил сердце к ее безмолвной мольбе и сказал себе, что ему безразлично, что с ней будет дальше.
Лине почувствовала, как проваливается в глубокую пропасть, где нет эмоций, нет надежды.
— Я освобожу вас, — обратилась она к нему тоненьким, срывающимся голосом.
Сердито взглянув на Лине, Дункан направился прочь, бросив через плечо:
— Я скорее соглашусь провести остаток своих дней в кандалах, чем быть обязанным вам своей свободой.
— Пожалуйста, — прошептала она. — Простите меня, умоляю вас.
— За прощением обращайтесь к Господу. После того, что вы сделали, я был бы круглым дураком, если бы принял ваше извинение.
— Пожалуйста, не уходите! — взмолилась она.
Он остановился, но не обернулся и молчал. Она беспомощно смотрела на мускулистую спину, которую она ласкала только вчера ночью, черные кудри, которые она пропускала через свои пальцы. Отчаяние поглотило ее: Святой Боже, она потеряла и его. Окончательно пав духом, она обошла его и встала перед ним. Как же ей хотелось прижаться к его широкой груди, почувствовать себя в безопасности в его объятиях! Но она знала, что сегодня ей не найти у него утешения. Глаза Лине вновь наполнились слезами. Она взяла его за руку и вложила в нее ключ от кандалов.
А потом, заплакав, ушла. Она потеряла все — дом, имя, любовь.
Эль Галло скомкал исписанный аккуратным почерком пергамент и швырнул его на палубу. Он поступил бы так же и с посыльным, старым трясущимся слугой этой торговки шерстью, не будь они в порту, под бдительным присмотром фламандского магистрата. Слепая ярость волной всколыхнулась в нем, и на лбу от гнева вздулись вены.
— Итак, — резко бросил он, брызгая слюной, — Сомбра намеревается уколоть меня своими великими достижениями.
Он задумчиво погладил бороду. Вся эта история с де Монфорами превратилась для него в настоящее проклятие. Сначала его унизили и ограбили в Англии. Затем провалились его попытки получить компенсацию на весенней ярмарке. Был один славный момент, когда он держал торговку шерстью заложницей на своем корабле. Но даже этот триумф оказался недолгим. Он потерял двоих своих лучших людей где-то во Фландрии. Одному Богу известно, живы ли они.
Но это! Это стало достойным завершением его позора. По словам посланца, Сомбре удалось не только каким-то образом отыскать девчонку де Монфор, но и обратить фортуну к себе лицом. Испанец сумел втереться в доверие к семейству де Монфоров, предъявив им самозванку, и теперь Сомбра возвращался в Испанию богатым человеком.
Зависть снедала Эль Галло. Но он был не из тех, кто легко смиряется с поражением, даже ощутив его близость. Война еще не окончена.
— И все равно, — размышлял он вслух, поглаживая бороду, — может быть, Сомбра не так уж и умен, а? Он упустил настоящую де Монфор. Найти ее — вопрос времени, прежде чем она отплывет домой, в Англию. Там должны быть доказательства ее происхождения — вещи, принадлежавшие ее отцу, юридические документы, может, какая-нибудь семейная реликвия, вероятно, даже семейная Библия — вещи, которые определенно укажут на то, что она — настоящая наследница. — Уголки его губ изогнулись в коварной ухмылке. — И, разумеется, с моей стороны будет глупостью не предложить ей свой корабль и услуги, чтобы доставить ее обратно во Фландрию, для того чтобы предъявить права на ее титул — ее титул и мою награду за то, что я отыскал настоящую наследницу де Монфоров. — Он сухо рассмеялся. — Подумать только, я наконец сделаю доброе дело. — Эта мысль привела его в совершеннейший восторг. — Может статься, мои соотечественники вернут мне мои владения в Испании за мои добрые дела, а, Гарольд? Что ты думаешь? — Старый слуга съежился, готовый в любую секунду пуститься наутек. Но Эль Галло по-приятельски обнял тщедушного старика, едва не задушив в своих объятиях. — Нет, нет, мой друг. Теперь ты останешься со мной. Мы вместе исправим эту чудовищную несправедливость!
Его отрыжка и грубый гогот испортили впечатление благородства, которое он стремился произвести, но все это было ерундой. Предстояло заняться приготовлениями — навербовать в борделях членов экипажа, запастись провизией на неделю, спланировать неожиданную смерть Сомбры. Солнце уже скрывалось за горизонтом, а Эль Галло собирался отплыть в полночь.
Волны ласково ударяли в борт английского судна. Паруса громко хлопали на ветру. Этот звук в другое время будоражил бы Дункану кровь, но сегодня утром каждый хлопок казался ему пощечиной. Голова у него раскалывалась от тупой боли, и он застонал, усилием воли удерживая завтрак в желудке. Ему не хотелось думать о том, что с ним будет, когда они обогнут косу бухты и выйдут в открытое море. Вероятно, он, облокотившись о фальшборт судна, представлял жалкое зрелище, зеленый от морской болезни, разукрашенный синяками и шрамами. Он дал себе клятву больше не топить своей скорби и беды в вине.

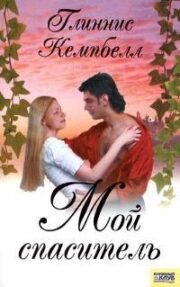
"Мой спаситель" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мой спаситель". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мой спаситель" друзьям в соцсетях.