И вот уже через месяц мы поставили в Троице-Сергиеву лавру на каких-то особо хороших условиях три компьютера. Компьютеры святой водой и установили в администрации РПЦ, а нас с Катькой с благословения благодарного церковного руководства включили в группу православных паломников, направлявшихся Египет. Главной целью паломничества посещение монастыря Святой Екатерины в
До начала поездки я несколько переживала оттого, что целых две недели проведу среди настоящих верующих, чья жизнь, по-видимому подчинена строгим духовным законам и правилам морали. С советских еще времен мне казался чудесным сам факт наличия в нашем обществе людей, имеющих хоть какие-нибудь твердые убеждения. Я всегда сознавала собственную неустойчивость и метания между хорошим и плохим. Нередко мне приходилось упрекать саму себя в недостойной гибкости своего нравственного начала. Я верила, что религиозные люди уж по крайней мере лучше меня самой, но при этом почему-то совершенно забывала о том раздражении и негодовании, которые вызывали у меня вполне конкретные вечно крестящиеся из маминого дома.
Наша группа состояла из двадцати паломников.
Кроме нас с Катькой, в нее входили семеро крупных бородатых мужчин духовного звания, пожилые монахини и три парня-программиста, с которыми мы уже были знакомы. Дима, Эдик и Антон работали на патриархию на поставленных нами компьютерах. Остальными учасвернее, участницами паломничества были ворчливые и вечно всем недовольные стабесформенных черных платьях и серых платках. Причем у двух старух концы этих были пропущены под мышками и непостижимым образом завязаны между лопаток на (по прилете в Египет они моментально смесерые шерстяные платки на белые хлопкобыстро ставшие грязными и вонючими).
Уже в самолете все проявили себя свойственным им образом. Попы накатили водочки и погрузились в обсуждение строительных и ремонтных работ, осуществляемых в храмах и на подворьях. Предметом особого волнения были повсеместные задержки поставок легковых автомобилей для обеспечения более динамичного окормления паствы, разбросанной по городам и весям. О чем шептались бледные монашки, не было слышно, а «серые» старухи обсуждали планы закупок заграничных товаров и их дальнейшей реализации на родине. При этом они беспрестанно поминали Всевышнего всуе, крестились и недобро косились в нашу сторону.
Одна из старух сидела в нашем с Катькой ряду. Приглядевшись, я ее узнала — за пару месяцев до этой поездки она участвовала в одном из бесчисленных телевизионных круглых столов как представитель православной общественности.
Я случайно включила ту передачу во время ужина и не смогла оторваться. Речь шла о подмосковном детдоме, где собрали больных и запущенных детей, сирот при живых родителях-алкоголиках. На гроши, выделявшиеся властями, невозможно было не то что воспитать и обучить этих несчастных детей, но хотя бы досыта накормить их чем-нибудь, кроме картошки с постным маслом.
И вот какая-то швейцарская благотворительная организация нашла это убогое заведение, перевела туда деньги, прислала детям специализированное питание, медикаменты, даже игрушки. Один из руководителей этой организации, приятный пятидесятилетний врач-педиатр, попросил дать им с женой возможность усыновить пятилетнего мальчика, самого слабенького и нездорового. На протяжении нескольких лет самогонщица-мать держала сынишку в сыром и вонючем подвале, скрывая от всех. Впоследствии она объяснила, что больной ребенок мешал ее личной жизни. Эта мразь надеялась еще выйти замуж за какого-нибудь ублюдка из числа тех, что прибредали в ее халупу, чтобы купить здесь самогон и тут же на месте его выпить. Иногда в доме появлялся и отец мальчика, опустившийся истопник сельской бани. Он отбирал у нее найденную сивуху, а заодно и все недостаточно хорошо припрятанные деньги, избивал ее, а потом и ребенка. К тому моменту, когда мать посадили за самогоноварение, ребенок в свои четыре года напоминал синюшного двухлетку, не говорил, писался по ночам и боялся дневного света. И вот этого мальчика никак не хотели отдать на усыновление в швейцарскую семью, которая жила на своей вилле в городе Монтре на берегу Женевского озера.
Выступление сидевшей рядом со мной старухи я запомнила на все жизнь. Тихим мерзеньким шепотком она, по сто раз повторяясь, бормотала одно и то же:
- Как же это можно русского чужбину отдавать! Мальчик ведь православный и душа у его православная, нежная душа. Как же он поедет в страну, где нет праведной веры, где все чужое, а люди злые, недобрые там православные. И не покушает там яичка пасхального, ни кулича, святой водицу окропленного. Да и от родителев нет ния на такое страшное дело, как границу везти. А без благословения родительского как же дитю ехать-то?!
Насчет благословения эта серая мышь верно подметила! Отец мальчика вряд ли был к моменту передачи готов благословлять сына — допившись до белой горячки, он попал в психиатрическую клинику. Забрали его после того, как, раздевшись догола, он пришел в сберкассу и нагадил в углу возле окошка, в котором принимались коммунальные платежи. С матерью было не легче: она попала в тюремный госпиталь после того, как выпила на двоих с сокамерницей жестяную банку целлулоидного клея. Они получили это клей в мастерской для изготовления стенда пожарной безопасности одного из тюремных бара ков. Мать мальчика откачали, и она в отличие сокамерницы осталась жива. Но при этом самогонщица полностью ослепла и потеряла так называемую кратковременную память, то есть еще как-то помнила давнее прошлое, но все события настоящего забывала через десять минут. В общем, и она благословить ребенка на новую счажизнь наверняка была не готова. Усимерзкой бабки и ей подобных мальчик осмыкать свое счастье в детдоме. Правда, стало известно позже, швейцарцы все-забрали. В нашем отечестве все же нанебезразличные хотя бы к собственной люди. Всего-то за двадцать пять тысяч наличными мальчика не только без звука вывезли из детдома, но и доставив Монтре.
Самолет с паломниками приземлился в Каире в десять часов утра. Наша невыспавшаяся, частично похмельная группа была усажена в старый обшарпанный автобус, и мы направились к пирамидам.
В Каире мы не останавливались и сразу после осмотра единственного из семи чудес света, поправшего время и сохранившегося до наших Дней, отбывали в Шарм-эль-Шейх. Там нас ожидала трехзвездная гостиница, показавшаяся мне с непривычки роскошным отелем.
Пирамиды произвели на меня невероятное впечатление. Чего только не сказано и не написано за века о египетских пирамидах и о сфинксесебя квстрече споследним, из чудес света невозможно. Немыслимое зрелище потрясло меня настолько, что я на какое-то время даже забыла о своих несчастьях, и даже никогда не покидавшие меня горестные размышления о Лене Ильине сместились куда-то на второй план. Глядя на грандиозные таинственные сооружения, я все сильнее проникалась мыслью, что человеческие руки не могли создать это непонятно для чего предназначенное чудо.
Связь с реальностью поддерживали назойливые почитатели пророка Мохаммеда. Эти шумные ребята не пропускали ни одного туриста, чтобы не навязать ему папирусную картинку, жестяную пирамидку или, на худой конец, пятиминутную поездку на верблюде.
В стоимость поездки входила экскурсия внутрь одной из пирамид. Наш бойкий экскурсовод выучил кое-как русский язык, когда учился на подготовительных курсах в МАДИ в середине семидесягодов. Причем выучил его не настолько хорошо, чтобы продолжать учебу, поэтому объясняться с ним было весьма забавно. Тем не менее эскурсовод довольно быстро собрал расползпо торговцам паломников и решительно направил нас в зияющую черную дыру.
Экскурсия заключалась в спуске по каменным ств абсолютно пустой затхлый склеп, чего предстоял не менее утомительный вожделенный выход на свет божий. Сотри погибели, чтобы не стукнуться низкие своды, мы, проклиная все на ползли вниз. Богомольные старухи непрекрестились и шепотом призывали себе в каких-то им одним ведомых святых угодТучные похмельно-поддатые служители молчаливо кряхтели и копили негодовасебе. Наконец, преодолев, если мне не изпамять, семьдесят две ступеньки спуска и при мысли о том, что теперь нас ждет путь наверх, мы остановились в мрачном и каменном зале, являвшемся, как мы поапофеозом этого мучительного предприМы с Катькой уже начали было шептаться очто мы сделаем с экскурсоводом, поджидавшим группу у выхода на поверхность, но тут обстановку самым неожиданным образом разрядил приходской священник изнебольшого пмосковного городка. С хриплым стоном он выпростал одутловатые телеса из тоннеля и огляделся вокруг. Мутный взор его уперся в обшарпанную стену древней гробницы. Угрюмая действительность, по логике вещей, должна была пересилить праздничное ощущение «заграничности». Но не тут-то было — бархатный бас огласил разграбленную каменную могилу абсурднейшей в восторженности фразой: «Вот жили же люди!» Мы с Катькой захохотали. Вслед за нами прыснула программистская молодежь. Попы неодобрительно покашляли, а православные старушонки дружно попытались испепелить нас ненавидящими взглядами.

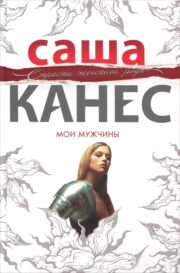
"Мои мужчины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мои мужчины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мои мужчины" друзьям в соцсетях.