— Она немного расстроена, — согласилась Грейс.
Он почти рассмеялся. Он знал, что это выглядело неуместно и неподоброму, но он всегда обожал преуменьшения.
— На ней были изумруды, не так ли? — он покачал головой. — Старая летучая мышь до смешного любит эти камни.
— На ней действительно были изумруды, — ответила Грейс, и он понял, что она должно быть совершенно измучена, раз не ругает его за то, что он назвал свою бабушку старой летучей мышью. — Она спрятала их под подушками сиденья.
Он был поражен.
— Она?
— Я, — поправилась Грейс. — Она кинула их мне прежде, чем они ворвались в карету.
Он улыбнулся ее изобретательности, и затем, после мгновения неловкой тишины, произнес:
— Вы не упомянули, почему вы здесь в столь поздний час. Несомненно, вы тоже заслужили отдых.
Она замялась, заставляя его задуматься над вопросом, что заставило ее так смутиться. Наконец она призналась:
— У вашей бабушки странное желание.
— Все ее желания странные, — немедленно ответил он.
— Нет, это… хорошо… — она раздраженно вздохнула. — Я полагаю, что вы захотите помочь мне вынести картину из галереи.
Этого он не ожидал.
— Картину, — отозвался он эхом.
Она кивнула.
— Из галереи.
Она снова кивнула.
Он попытался предположить… но сдался.
— Я полагаю, что она просит один из тех небольших квадратных натюрмортов.
Она посмотрела на него так, как если бы у нее хватило сил улыбнуться.
— С фруктами в вазе?
Он кивнул.
— Нет.
О господи, его бабушка, наконец, сошла с ума. Это была хорошая новость, в самом деле. Вероятно, он сможет поместиь ее в приют. Он не мог представить, что кто–то станет возражать.
— Она хочет портрет вашего дяди.
— Моего дяди? Которого?
— Джона.
Томас кивнул, задаваясь вопросом, почему он спросил. Конечно, он никогда не знал своего дядю; Джон Кэвендиш погиб за год до того, как он родился. Но в Белгрейве вечно будет его тень. Вдова всегда любила своего среднего сына больше всех, и все знали это, особенно другие ее сыновья.
— Он всегда был ее любимцем, — пробормотал он.
Грейс вопросительно на него посмотрела.
— Но вы никогда не знали его.
— Нет, конечно, нет, — сказал он резко. — Он умер до моего рождения. Но мой отец говорил о нем.
Весьма часто. И никогда с нежностью.
Однако он посчитал, что должен помочь Грейс снять картину со стены. Бедная девочка не справится с этим самостоятельно. Он покачал головой.
— Тот портрет, что в натуральную величину?
— Боюсь, что так.
Господи. Прихоти его бабушки… Ну нет, он не собирается этого делать.
Он посмотрел Грейс прямо в глаза.
— Нет, — сказал он. — Сейчас вы не станете этого делать. Если она хочет в свою комнату эту чертову картину, утром она сможет попросить об этом лакея.
— Уверяю вас, я ничего так не хочу, как прямо сейчас удалиться к себе, но проще будет сделать так, как она хочет.
— Категорически нет, — ответил Томас. О господи, его бабушка действительно тяжелый человек. Он повернулся и пошел вверх по лестнице, но на полпути понял, что остался один.
Что это случилось с женщинами Линкольншира этим вечером?
— Грейс! — рявкнул он.
И затем, когда она немедленно не материализовалась на ступенях лестницы, он сбежал вниз и крикнул еще громче:
— Грейс!
— Да, здесь я, — выпалила она, поспешно выбегая из–за угла. — Ради Бога, вы перебудете весь дом.
Он пропустил это мимо ушей.
— Не говорите мне, что вы собираетесь идти за картиной.
— Если я не этого сделаю, то она будет звонить мне всю ночь, и мне не удасться поспать.
Он сузил глаза.
— Подождите меня.
Она выглядела встревоженной.
— Подождать вас, зачем?
— Сорву шнур ее звонка, — сказал он, возобновляя движение вверх по лестнице с новой целью.
— Сорвете шнур… Томас!
Он не потрудился остановиться. Он слышал, как она стремительно рванула вперед позади него, почти способная продолжать в том же темпе.
— Томас, вы не можете, — она часто дышала, запыхавшись, поскольку, мчась за ним, перескакивала через ступеньку.
Он остановился и повернулся. И даже усмехнулся. Действительно, это было почти забавно.
— Дом принадлежит мне, — сказал он. — Я могу делать все, что захочу.
Он быстро пересек длинный ковер, сделав паузу у двери своей бабушки, удачно приоткрытой, чтобы легче было войти.
— Что вы надумали сделать? — рявкунул он, добравшись до ее кровати.
Но его бабушка выглядела так…
Необычно.
Ее глазам недоставало ее обычной твердости, и по правде сказать, она не вполне походила на ведьму, чтобы напоминать ту Августу Кэвендиш, которую он знал и совсем не любил.
— О боже, — вырвалось у него, — вы в порядке?
— Где мисс Эверсли? — спросила его бабушка, а ее глаза отчаянно забегали по комнате в поисках компаньонки.
— Я здесь, — сказала Грейс, скользнув через комнату к другой стороне ее кровати.
— Вы принесли? Где картина? Я хочу видеть моего сына.
— Мэм, уже поздно, — попыталась объяснить Грейс. Она подалась вперед, внимательно посмотрела на вдову, после чего повторила: — Мэм?
— Вы можете приказать лакею сделать это утром, — сказал Томас, удивляясь, почему ему показалось, что что–то невысказанное только что промелькнуло между этими двумя женщинами. Он был совершенно уверен, что его бабушка не посвящала Грейс в свои секреты, и он знал, что Грейс не делала никаких жестов. Он откашлялся.
— Мисс Эверсли не станет выполнять такую серьезную физическую работу, и уж конечно не в середине ночи.
— Мне нужна эта картина, Томас, — сказала вдова, но не своим обычным трескучим голосом. Был в нем какой–то надлом, некая слабость, что лишала силы и твердости. Затем она добавила: — Пожалуйста.
Томас закрыл глаза. Его бабушка никогда не говорила «пожалуйста».
— Завтра, — сказал он, приходя в себя. — Первым делом, если вы пожелаете.
— Но…
— Нет, — прервал он. — Я сожалею, что побеспокоил вас этим вечером, и я, конечно, сделаю все, что необходимо — в пределах разумного — чтобы обеспечить ваш комфорт и здоровье, но сюда не входят причудливые и несвоевременные требования. Вы понимаете меня?
Ее губы сморщились, и он увидел в ее глазах вспышку ее обычного высокомерия. По некоторым причинам, он нашел это обнадеживающим. Не то, чтобы ему очень уж понравилось это ее обычное высокомерие, но мир был более сбалансирован, когда каждый вел себя так, как ожидалось.
Она сердито на него уставилась.
Он оглянулся назад.
— Грейс, — сказал он резко, не поворачиваясь, — идите спать.
Последовала длинная молчаливая пауза, затем он услышал, что Грейс удалилась.
— Вы не имеете никакого права ей приказывать, — прошипела его бабушка.
— Нет, это вы не имеете никакого права.
— Она — моя компаньонка.
— Но не ваша раба.
Руки его бабушки дрожали.
— Вы не понимаете. Вы никогда не могли понять.
— За что вечно благодарен, — парировал он. О господи, день, когда он понял бы ее, был бы днем, когда он перестал бы любить себя, навсегда. Он потратил жизнь, пытаясь понравиться этой женщине, или нет, не так, половину жизни он пытался понравиться этой женщине, а следующую половину — пытался избегать ее. Он никогда ей не нравился. Томас понял это еще в детстве. Теперь это не беспокоило его; он давно понял, что ей никто не нравился.
Но когда–то и она любила. Если обиженные стенания его отца содержали хотя бы намек на правду, Августа Кэвендиш обожала своего среднего сына, Джона. Она всегда оплакивала тот факт, что он не родился наследником, и, когда отец Томаса неожиданно все унаследовал, она ясно дала понять, что он был слабой заменой. Джон был бы лучшим герцогом, а если не он, то тогда Чарльз, который, как самый старший, наследовал все. Когда он погиб, Реджинальд, третий сын, остался с ожесточенной матерью и женой, которую он не любил и не уважал. Он всегда чувствовал, что был вынужден жениться на девушке ниже его по положению, поскольку никто не думал, что он станет наследником, и он не видел причины не высказывать это убеждение громко и ясно.
Хотя Реджинальд Кэвендиш и его мать, казалось, терпеть не могли друг друга, они были, по правде говоря, удивительно похожи. Им обоим никто не нравился, и тем более Томас, не важно был ли он наследником герцога или нет.
— Жаль, что мы не можем сами выбирать себе семьи, — пробормотал Томас.
Его бабушка резко на него посмотрела. Он говорил не достаточно громко, чтобы она могла разобрать его слова, но его тон совершенно ясно передал смысл сказанного.
— Оставьте меня одну, — сказала она.
— Что случилось с вами этим вечером?
Хотя вопрос не имел никакого смысла. Да, возможно на нее напали разбойники, и возможно ей даже ткнули оружием в грудь. Но Августа Кэвендиш не была хилым цветком. Она плевалась бы гвоздями, если бы они положили ее в могилу, он в этом не сомневался.
Ее губы приоткрылись, а глаза зажглись мстительным огнем, но все–таки она сдержала свой язык. Ее спина выпрямилась, и она стиснула челюсти. Наконец она произнесла:
— Уходите.
Он пожал плечами. Если она не желала позволить ему играть почтительного внука, то он счел себя освобожденным от ответственности.
— Я слышал, что они не получили ваши изумруды, — сказал он, направляясь к двери.
— Конечно, нет!
Он улыбнулся. По большей части потому, что она не могла этого видеть.
— Было нехорошо с вашей стороны, — сказал он, поворачиваясь к ней лицом, стоя у самой двери, — кидать их мисс Эверсли.
На что она усмехнулась, не удостоив его ответом. Он его и не ждал; Августа Кэвендиш никогда не оценивала свою компаньонку выше своих изумрудов.
— Приятных сновидений, дорогая бабушка, — выкрикнул Томас уже из коридора. После чего он просунул свою голову назад в дверной проем, достаточно далеко, чтобы произнести еще одну мысль на прощанье. — Если же вы не сможете уснуть, ведите себя тихо. Я попросил бы вас стать невидимой, но вы продолжаете настаивать, что вы не ведьма.

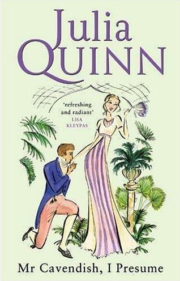
"Мистер Кэвендиш, я полагаю.." отзывы
Отзывы читателей о книге "Мистер Кэвендиш, я полагаю..". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мистер Кэвендиш, я полагаю.." друзьям в соцсетях.