Томаса не сильно волновало то, что его могут застать наедине с леди Амелией Уиллоуби. Он ведь уже был помолвлен с девчонкой, не так ли? И больше он не может откладывать свадьбу. Он сообщил ее родителям, чтобы они ждали, пока ей не исполнится двадцать один год, а это произойдет в ближайшее время.
Если уже не произошло.
— У меня только один выход, — бормотал он. — Я должен сходить за моей прекрасной суженой, притащить ее назад и станцевать с ней, продемонстрировав собравшейся толпе, что я могу прижать ее к ногтю.
Грейс уставилась на него с изумлением, а Элизабет слегка позеленела.
— Но тогда это будет выглядеть так, словно я озабочен, — продолжил он.
— А это не так? — спросила Грейс.
Он задумался над этим. Его гордость была уязвлена, это правда, но большего всего он был удивлен.
— Не очень, — ответил он, а затем, поскольку Элизабет была ее сестрой, добавил, — Прошу прощения.
Она слабо кивнула.
— С другой стороны, — сказал он, — я могу просто остаться здесь. Это не стоит того, чтобы устраивать сцену.
— О, думаю, сцена уже состоялась, — прошептала Грейс, бросая на него лукавый взгляд, который он незамедлительно вернул ей.
— Вам повезло, что вы единственная, которая делает мою бабушку терпимой.
Грейс повернулась к Элизабет.
— Очевидно, мне стоит уволиться.
— Заманчивая идея, — добавил Томас.
Но они оба знали, что это не так. Что Томас смиренно падет к ее ногам, только чтобы убедить ее остаться на службе у его бабушки. К счастью для него Грейс не высказывала желания уйти.
Хотя он мог бы сделать это. И одновременно утроить ей зарплату. Каждая минута Грейс, проведенная в компании его бабушки, позволяла ему избегать ее общества, и действительно, одно это стоило того, чтобы поднять ей жалованье.
Но в этот момент вопрос не стоял так остро. Его бабушка была благополучно устроена в другой комнате в компании ее близких друзей, и он намеревался провести весь вечер, не перемолвившись с нею ни словом.
А вот его fiancée (невеста — фр.) - это совершенно другая история.
— Полагаю, что я позволю ей мгновение триумфа, — заключил он, приходя к этому решению, пока слова срывались с его губ. Он не чувствовал потребности демонстрировать свою власть, — в самом деле, можно ли в этом сомневаться? — и ему не доставляла радости мысль, что лучшие люди Линкольншира могут предположить, что он увлечен своей fiancée.
Томас не был страстно влюблен.
— Должна сказать, что это очень великодушно с вашей стороны, — заметила Грейс, улыбаясь самой возмутительной из своих улыбок.
Томас пожал плечами. И только.
— Я человек великодушный.
Глаза Элизабет расширились, и он подумал, что слышит, как она дышит, но кроме этого она не издала ни звука.
Немногословная женщина. Возможно, он должен жениться на ней.
— Итак, когда вы покидаете вечер? — спросила Грейс.
— Вы пытаетесь от меня избавиться?
— Нисколько. Вы же знаете, я всегда наслаждаюсь вашим присутствием.
Прежде чем он смог ответить на ее сарказм, он заметил голову, или, точнее, часть головы, выглядывающей из–за занавеси, отделяющей бальный зал от коридора.
Леди Амелия. В конце концов, недалеко же она ушла.
— Я приехал танцевать, — объявил он.
— Вы ненавидите танцы.
— Неправда. Я ненавижу обязательные танцы. Они требуют совершенно особых усилий.
— Я могу найти свою сестру, — быстро предложила Элизабет.
— Не глупите. Она, очевидно, также ненавидит обязательные танцы. Моей партнершей будет Грейс.
— Я? — Грейс выглядела удивленной.
Томас подал сигнал небольшой группе музыкантов в передней части зала. Они немедленно подняли свои инструменты.
— Вы, — сказал он. — Вы полагаете, что я могу танцевать здесь с кем–то еще?
— Есть Элизабет, — произнесла она в то время, как он вел ее в центр танцевального круга.
— Вы шутите, конечно, — прошептал он. На лицо леди Элизабет Уиллоуби так и не вернулась краска, которая покинула его, когда ее сестра развернулась и вышла из комнаты. Предложение потанцевать, вероятно, вызвало бы у нее обморок.
Кроме того, Элизабет не подходила для его цели.
Он посмотрел на Амелию. К его удивлению, она не спряталась немедленно за занавес.
Он улыбнулся. Совсем чуть–чуть.
И затем, это и было его целью, он увидел ее изумление.
Только после этого она скрылась за шторой, но это его не интересовало. Она будет наблюдать за танцем. До последнего его шага.
Глава вторая
Амелия знала, чего он пытается добиться. Ей все было ясно, как божий день, она знала, что ею манипулируют, и все же, черт бы побрал этого человека, она стоит здесь, скрываясь за занавесом, наблюдая за тем, как он танцует с Грейс.
Он был превосходным танцором. И Амелия знала это как никто. Она танцевала с ним много раз: кадриль, контрданс, вальс — в течение двух ее сезонов в Лондоне. Для каждого из них танцы были обязанностью.
И все же иногда, иногда, они были восхитительны. Амелия не могла не думать о том, как это великолепно — положить свою руку на руку самого известного холостяка Лондона, особенно, когда они были связаны обязательным контрактом, подтверждающим, что этот холостяк ее и только ее.
Все в нем было значительнее и превосходнее в той или иной степени, чем у других мужчин. Он был богат! У него имелся титул! От его имени молоденькие девчонки падали в глупые обмороки!
И от его крепкого сложения, ну, в общем, они также падали в обморок.
Амелия была совершенно уверена, что Томас Кэвендиш стал бы самой выгодной партией десятилетия, даже если бы он родился с сутулой спиной и двумя носами. Не состоящие в браке герцоги редко встречаются на земле, к тому же хорошо известно, что Уиндхемам принадлежит достаточно земли и денег, чтобы соперничать с большинством европейских княжеств.
Однако спина его милости не была сгорблена, а его нос (к счастью, единственный), был прямым и аристократичным, вернее впечатляющим в соотношении с остальной частью лица. Его волосы были темными и густыми, глаза приковывали своей синевой, и если он и скрывал что–то от посторонних глаз, то зубы у него имелись в полном комплекте. Честно говоря, при подробном описании его внешности нельзя было подобрать другого слова кроме слова «красивый».
Но хотя Амелия и была слегка затронута его очарованием, ослеплена им она не была. И, несмотря на их помолвку, Амелия считала себя самым объективным его судьей. А все потому, что была в состоянии ясно сформулировать его недостатки, и при случае развлекала себя, кратко их записывая и перерабатывая, будьте уверены, каждые несколько месяцев.
Это казалось только справедливым. И, несмотря на неприятности, которые бы она имела, если бы кто–нибудь наткнулся на ее записи, это стоило того, чтобы быть au courant (осведомлённым — фр.) настолько, насколько возможно.
Амелия во всем ценила точность. Она считала, что это ее печально недооцененное достоинство.
Но проблема с ее fiancé (в данном случае — жених — фр.), и, как она предполагала, большинства человечества заключалась в том, что его было очень трудно квалифицировать. Как, например, объяснить, что вокруг него витала неподдающаяся анализу аура, словно в нем было что–то … большее, чем в остальной части общества. Совершенно не предполагалось, что герцоги должны так хорошо выглядеть. Им предназначено быть худыми и жилистыми, или, в противном случае, толстыми, их голоса должны быть неприятными, а интеллект низким и, вот… как то раз она заметила руки Уиндхема. Обычно, когда они встречались, он носил перчатки, но однажды, она не могла вспомнить почему, он их снял, и его руки просто загипнотизировали ее.
Его руки, ради всего святого!
Это было ненормально, и это было нереально, но в то время, пока она стояла перед ним молча и, вероятно, разинув рот, она не могла не думать, чем занимались эти руки. Чинили забор. Работали лопатой.
Если бы он родился пятью столетиями ранее, то он, конечно, был бы свирепым рыцарем, размахивающим мечом на поле битвы (во время, свободное от нежных объятий на закате своей благородной леди).
И конечно она знала, что, возможно, провела чуть больше времени, обдумывая лучшие стороны характера своего жениха, чем он ее.
Но и в этом случае, когда было сказано и сделано все возможное, она знала о нем не так уж много. Титулованный, богатый, красивый — не сказать, что исчерпывающие знания. Поэтому она не думала, что желание узнать о нем что–то еще было для нее чем–то неблагоразумным. А вот то, что она действительно хотела, хотя и не могла точно объяснить почему, это чтобы он что–нибудь узнал о ней.
Точнее захотел узнать о ней хоть что–нибудь.
Стал наводить справки.
Задавать вопросы.
И слушать ответы, вместо того, чтобы молча кивать, наблюдая за кем–то другим в глубине зала.
С тех пор, как Амелия начала отслеживать такие вещи, ее жених задал ей ровно восемь вопросов. Семь по поводу развлечений вечера. А оставшийся — насчет погоды.
Она не ждала от него любви — не так уж она была наивна. Но она думала, что мужчина, по меньшей мере средних умственных способностей, захочет хоть что–то узнать о женщине, на которой планировал жениться.
Но нет, Томас Адолфус Гораций Кэвендиш, глубокоуважаемый герцог Уиндхем, граф Кестевен, Стоу и Стамфорд, барон Гренвилл де Стэйн, не говоря уже об обладании другими титулами, которые, к счастью, ей не нужно было запоминать, казалось, не интересовался тем, что его будущая жена любила землянику, но терпеть не могла горох. Он не знал, что она никогда не пела на публике, также как не был осведомлен, что когда ей того хотелось, она писала превосходные акварели.
Он не знал, что она всю жизнь мечтала посетить Амстердам.
Он не знал, что она ненавидит, когда ее мать восхваляет ее образование и эрудицию.
Он не знал, что она будет отчаянно скучать по сестре, когда Элизабет выйдет замуж за графа Ротси, который жил на другом конце страны в четырех днях езды.

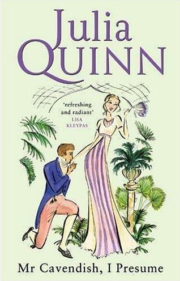
"Мистер Кэвендиш, я полагаю.." отзывы
Отзывы читателей о книге "Мистер Кэвендиш, я полагаю..". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мистер Кэвендиш, я полагаю.." друзьям в соцсетях.