Дора посмотрела на его силуэт на фоне грозного неба. Его лицо выражало решимость, и, глядя на него, она вдруг подумала, что мужественность в человеке не всегда бросается в глаза. Она может быть и там, где полное самообладание как бы подавляет личность, и в таком скрытом состоянии она бывает еще сильнее. Надвигавшаяся гроза привела ее в возбужденное состояние. Ей не нравилось, что Рекс слишком владеет собой, держится как-то вдалеке от нее; никогда еще он не был так спокоен, так сдержан.
Если бы он не приехал, жизнь была бы проще; его приезд не усилил ее любви к Саварди, не подействовал на нее так, как иногда действует возвращение старого друга. Просто Рекс явился как бы контрастом Саварди, а ее настроение еще недостаточно установилось, чтобы желать новых влияний.
Вошел Саварди и первым увидел Рекса; его синие глаза сверкнули.
Он поцеловал Дору, тихо заговорил с ней, как говорят, когда хотят как бы отгородить себя и своего собеседника от прочего мира.
Рекс по-прежнему стоял у окна и смотрел на сгущающуюся темноту на улице, на низко гнувшиеся деревья и раздувавшиеся тенты.
Казалось, точно нет ветра, а между тем все летело, двигалось и качалось со страшной быстротой.
Саварди безумно желал, чтобы Рекс ушел, и продолжал что-то шептать Доре. Он был возбужден зрелищем боя быков, а выпитое отличное шампанское еще больше взвинтило его.
Ему хотелось целовать и целовать Дору, а этот человек без всякого дела стоял тут, как на молитве.
– Понравился вам бой быков, сеньор Гревиль? – внезапно спросил он.
– О да, благодарю вас.
– Значит, вы одобряете наши развлечения?
– Почему же нет, дон Луис?
Саварди увидел, что этим ничего не достигнет. Время тянулось. Наконец, как раз перед тем, как разразилась гроза, Саварди ушел.
– Я не могу ехать в театр, пока это продолжается, – сказала Дора, глядя, как град колотит по улице. – Это невозможно. Боже, Рекс, как меня раздражает жизнь!
И так как он продолжал молчать, она сказала с нервным смехом:
– Я хотела бы, чтобы меня кто-нибудь утешил.
Эти слова как будто вернули их к прежней жизни в Гарстпойнте.
– Рекс, я в таком сомнении…
Ей хотелось, чтобы он расспросил ее, но он спокойно сказал:
– Ты невеста; никто ведь не может принудить к этому.
– Обстоятельства могут, – мрачно ответила Дора.
Он по-прежнему не глядел на нее. Его задумчивый взгляд был устремлен на мокрую дорогу. Вдруг Дора спросила:
– Как отнеслась Джи к моей помолвке?
– О, она надеется, что ты будешь счастлива, и так далее, и тому подобное. – Он улыбнулся ей: – Джи держала себя так, как это следовало от нее ожидать.
В его словах заключался двойной смысл, так как Джи отнеслась «как следует» к этому обстоятельству не только по отношению к Доре, но и по отношению к нему, Рексу.
Она не расспрашивала о выборе Доры; она пожелала ей всякого счастья, а потом взяла его голову своими тонкими сморщенными руками и положила ее к себе на плечо. Если Рексу при чтении письма, в котором извещалось о помолвке Доры, показалось, что вся прелесть и радость ушли из жизни, она через него прониклась его чувством – что жизнь потеряла всякую ценность.
Она не была бы так потрясена этим известием, если бы она знала, что любовь Рекса – обыкновенная, сильная, но спокойная любовь, не поглощающая всего человека; конечно, отчаяние его в таком случае огорчило бы ее, и только. Но она знала, что некоторые люди так созданы, что любовь заполняет всю их жизнь, не оставляя в ней места ни для чего другого, и что для таких людей единственный путь к счастью – это обладание любимой женщиной.
Рекс не был монахом, но он никогда ни об одной женщине не говорил с любовью, кроме Доры. Джи знала его насквозь, знала его страсть к прекрасному, остроту его ума, его непоколебимое упрямство. Эти три свойства соединились в его любви к Доре.
– Я хочу иметь лучшее или ничего, – мрачно сказал он как-то Джи.
Это она посоветовала ему поехать в Мадрид; она угадала, что у него есть эта мысль, и, насколько могла, облегчила ему ее исполнение.
Свадьба Доры оттягивалась. Рекс видел достоинства и недостатки Саварди и понимал, что он любит настолько, насколько он способен любить данную женщину в данное время. Он заметил, что Дора не любит его и тем не менее выйдет за него замуж, если кто-нибудь своим влиянием не остановит ее. Ему стало ясно, что ему больше нечего тут делать и что следует вернуться в Англию; он признавал, что Саварди вполне прав, не любя его, и презирал себя за то, что хотел использовать эту нелюбовь.
В этот вечер он понял, что должен уехать, так как если Дора не любит Саварди, то и его она тоже не любит; а между тем его присутствие только мешает ей сосредоточиться и разобраться в своих чувствах.
– Я завтра уеду, моя дорогая, – сказал он. – В такую погоду я предпочитаю Гарстпойнт.
– Ты хочешь завтра уехать? – отозвалась Дора; сердце ее сжалось. – О, зачем?!
– Много причин, а главная – я так хочу.
В комнате было почти совсем темно, и они едва могли разглядеть друг друга.
– Не уезжай, – сказала Дора; она подошла к нему и положила руку на его плечо. – Мне было так… так приятно, что ты тут был. Саварди…
– Не любит меня, но относится ко мне хорошо, ты это хочешь сказать? – прервал он ее.
– Он тебя любит.
– Нет, дорогая моя, и я тоже его не люблю.
– Какая чепуха! Но даже если так, то почему это?
Рекс подумал: «Умышленно ли жестока женщина, или это происходит от нервов?» Ему хотелось схватить руку Доры, сжать ее в своей и сказать ей: «Потому, что мы оба тебя любим. Потому, что он подозревает, что я люблю, и я знаю, что он это думает. Потому, что мне ненавистно быть при том, как он касается тебя, думать о мгновениях, когда он тебя целует. Потому, что я ненавижу его, явившегося первым, когда я опоздал, и не по своей вине, так как это просто дело случая, счастья – зовите это как хотите. Я ненавижу его также за то, что из-за него презираю самого себя».
Вместо этого он сказал:
– Просто мы не подходим друг другу, хотя оба очень милые люди – только каждый на свой лад.
Он продолжал разговор в том же шутливом тоне, стараясь поддержать в себе бодрость.
Ни разу еще со времени своего приезда в Мадрид он не чувствовал себя таким взволнованным; Дору тоже никогда еще не влекло к нему так сильно, как в этот момент. Нервы его были натянуты; очевидно, и на него действовала гроза. Он сознавал, что если не уйдет сейчас, то никогда себе этого впоследствии не простит. А между тем ему страстно хотелось сломать хрупкую преграду, которая отделяла его от Доры, хотелось умолять ее взять обратно данное ею слово, хотелось рассказать ей о бессонных ночах и мучительных днях, прожитых им в разлуке с ней. Вместо этого он заставил себя сказать:
– Мне пора, моя дорогая. Если позволишь, я завтра утром зайду проститься.
Он не решился поцеловать ей руку. Дойдя до двери, он зажег свет и, обернувшись, сказал:
– Итак, до свидания.
Рекс закрыл за собой дверь и остался один в бесконечном коридоре; ему стало смертельно больно от сознания, что случай упущен и что встреча, которой он так жаждал, окончилась ничем.
Он долго стоял так, задавая себе уже бесполезные вопросы: зачем он не остался немного долее? Зачем он так держал себя? Ведь на самом деле ему вовсе не хотелось уходить и все его существо рвалось обратно к Доре.
Он направился вниз по широкой, устланной мягким ковром лестнице.
Дождь перестал на некоторое время, но небо низко нависло, подобно темной угрожающей волне, готовой хлынуть каждую минуту.
Молния сверкала серебряным огнем, но грома не было слышно: воздух был тяжелый и душный.
Рекс вышел и направился через площадь; как раз в эту минуту прямо перед ним низко пригнулась акация, точно чья-то рука потянула ее вниз. Вслед за этим разразился второй приступ бури.
Рекс побежал, немного прихрамывая, вперед, завидев перед собой слабый четырехугольник света, суливший ему убежище. Он нашел полуоткрытую дверь и вошел в нее. Откуда-то невнятно доносились голоса – мужской голос смеялся, кто-то пел. Осмотревшись, Рекс понял, что, вероятно, находится в боковом входе «Café du Nord». До него доносились звуки оркестра, и ему казалось, что он узнает место.
Дождь лил как из ведра; Рекс решил переждать тут и присел на покрытых линолеумом ступеньках лестницы.
Комната на верхнем конце лестницы, очевидно, была занята какой-то веселой кутящей компанией.
Звуки музыки прерывались взрывами громкого хохота. Рекс вспомнил о бое быков и понял, почему это торжество происходит в такой ранний час.
Он закурил папиросу. Ему казалось странным, что завтра в этот час он будет уже далеко; необычайным это казалось просто потому, что он действовал вопреки своему желанию, даже прямо против своей воли.
Он никогда так не любил Дору, как теперь, после того как их жизни долгое время текли по разным руслам. Он находил в ней что-то новое, и эта новизна придавала ей особую прелесть или, может быть, еще более выдвигала все те качества, которыми он особенно дорожил в ней.
Он пытался подумать о том, как он теперь наладит свою жизнь, как он будет проводить время, которое так грозно вставало перед ним. Когда любишь и нелюбим, время становится беспощадным врагом, и от него не уйти.
Он представлял себе, что вернется в Лондон, останется там, будет читать в газетах о Доре и… пуще прежнего будет ненавидеть Саварди.
Ибо в глубине души он ненавидел и презирал его, не отдавая себе отчета в том, откуда рождалось это чувство.
Он презирал его, хотя и сознавал в то же время, что ревность мешает ему быть вполне справедливым к нему.
И, странным образом, как раз в эту минуту он услышал голос Саварди: он выкрикивал чье-то имя, имя Доры.
Кровь бросилась в голову Рекса.
– Негодяй, он, наверное, пьян!
Другой голос отчетливо крикнул:

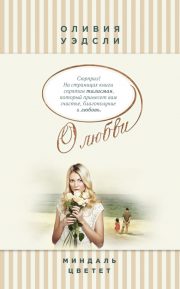
"Миндаль цветет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Миндаль цветет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Миндаль цветет" друзьям в соцсетях.