Маша гладила платье. В ресторане, куда ей помог устроиться двоюродный брат Сичилиано, любили неаполитанские песни и даже арии из опер Верди. К тому же там работал первоклассный пианист, выпускник знаменитой Джульярдской академии музыки. Это было получше бара-стриптиза на Сорок седьмой улице, где петь приходилось в узеньком блестящем купальнике и высоких сапогах, да еще и вихлять всеми частями тела и задирать ноги. Правда, там платили в два раза больше, и голос не нужно было напрягать — в бар ходила одна молодежь, балдевшая от надрывного — с хрипотцой — шепота в микрофон. Машино юношеское увлечение рок-н-роллом и балетом сыграло благотворную роль — у нее почти с ходу получилось так, как было нужно. Уже через месяц работы в этом баре Маша ощутила такую депрессию, что стала подумывать о самоубийстве. Джузеппино со своим предложением петь у него в ресторане оказался как нельзя кстати.
— В холодильнике мясной рулет и яблочный пирог, — говорила Маша, не поднимая глаз от гладильной доски. — Прошу тебя, не пей больше виски. Я купила пива и сока.
Анджей вдруг вскочил с дивана и крепко прижал Машу к себе.
— Ты помнишь, как было у нас с тобой в Москве? — Он так горячо дышал ей в ухо, что она невольно отстранилась. — Ни к одной девушке я никогда ничего подобного не испытывал. Черт подери, об этом нужно было писать роман, а не спекулировать на всяких модных темах. Что все остальное в сравнении с нашими чувствами? — Он резко повернулся и отошел к окну, за которым тянулся в блеклое от рекламных огней небо беспокойный ночной Нью-Йорк. — Теперь я сижу на шее девушки, мать которой когда-то любил до дрожи, а потом вдруг взял и бросил. Ради кого? Богатой шизофренички с сексуальным аппетитом Марии Медичи. Нет, это все так банально, так пошло, что даже говорить об этом не хочется. — Он обернулся от окна и прошептал едва слышно: — Но ты среди всего этого дерьма и похабщины жизни точно светлый луч. И опять я говорю банальные вещи. Ладно, прости меня. Ах, если бы только можно было их воскресить, твою мать, Юстину, снова очутиться в том доме… Или лучше в Москве, на скамейке возле консерватории, где ты сидела с этим…
— Отец, мне пора, — перебила его Маша, надевая пальто с капюшоном. — Не беспокойся — я могу задержаться.
— У тебя кто-то есть? — Анджей стремительно пересек комнату, схватил Машу за плечи и сильно встряхнул. — Отвечай — ты с ним спишь?
— Тебе не кажется, что мы похожи на персонажей из дешевой комедии? Кажется, по-русски это называется во-де-виль. — Маша, прищурившись, посмотрела Анджею в глаза и грустно усмехнулась. — У меня никого нет, папа, и я вряд ли смогу когда-нибудь полюбить. Я устала, понимаешь?
Когда за ней захлопнулась дверь, Анджей достал из бара бутылку с виски и, налив пол стакана, вернулся на диван. Вечер обещал быть длинным и тоскливым. Телевизор он не смотрел — американская жизнь раздражала своей оптимистичной упорядоченностью и непоколебимой верой в то, что деньги есть синоним и даже символ счастья. Денег у него нет — Тэлбот оказался превосходным психологом, к тому же он был стопроцентным американцем. Он рассчитывал на то, что Анджей Ковальски, мелкий фантазер и жалкий авантюрист, очень скоро скатится на дно и сгинет.
О, как изгалялись все до одной газеты, обливая его грязью явной лжи, основанной на вывернутых наизнанку фактах из реальной жизни. Его называли современным Казановой с коммунистическим прошлым, многоженцем, сексуальным маньяком. Досталось и Маше — одна из газет поместила фотографию маленькой Лиз, которая терла кулачком заплаканные глаза, снабдив снимок многозначительной подписью: «Эта девочка плачет потому, что каждую ночь видит во сне маму, которую наяву не видела уже почти полгода».
Дотошные журналисты сумели раскопать историю взаимоотношений «Брижит Бардо с американского Юга» и Бернарда Конуэя, сына техасского мультимиллионера, проинтервьюировали доктора Джакомо Гульельми, психиатра из Палермо. О Машиной отшельнической жизни на роскошной вилле в Ницце писали: «Это было молчание Сольвейг, ожидающей возвращения Пер Гюнта, который между тем регулярно появлялся в обществе небезызвестной Джейн Осборн, молодой голливудской звезды, роковой женщины и секс-бомбы двадцать первого века». Это был удар ниже пояса, который Маша переживала особенно тяжело. Анджей подозревал, что она до сих пор не пришла в себя после него. Правда, ее, наверное, грела мысль, что это она бросила Бернарда. Анджей грустно усмехнулся. Слабое утешение для живущих сердцем, а не рассудком. Эта Джейн Осборн ослепительно красива, но она представляет собой идеал американской — искусственно совершенной — красоты. Анджей, будучи европейцем, к тому же еще и славянином, любил все естественное, а также подсознательно понимал, что смысл жизни состоит в вечном стремлении к совершенству, но никак не в достижении его. Он не одобрял выбор Бернарда Конуэя, но он его и не осуждал, по себе зная, что верность одной-единственной женщине превращает мужчину в конформиста и скучного обывателя.
Анджей сделал большой глоток виски и, вытянувшись на диване, уставился в потолок.
Еще несколько месяцев в этой треклятой стране, и он превратится в законченного алкоголика либо неврастеника. Или сдохнет от сердечного приступа, как случилось с беднягой Фитцджеральдом, опрометчиво посвятившем жизнь описанию своей сумасбродной любви к психически больной американке. Однако он был тысячу раз прав, остановив свой выбор на этой Зельде, думал сейчас Анджей. Здоровые нормальные американки годятся лишь для занятий сексом и деторождения. Новый Свет слишком благополучен для того, чтобы в нем оставалось место для любви.
И его вдруг со страшной силой потянуло в Старый.
Он сделал еще глоток виски. Последнее время алкоголь заставлял его мозг работать ясно и четко. Это был дурной признак. Алкоголь должен приносить забвение. Сейчас ему больше всего на свете нужно забвение.
Анджей выключил торшер и закрыл глаза. Как скучает он по кромешной — звездной — тьме. Такой, какая окружала его ночами в мансарде того дома возле реки. Почему он бежал оттуда? Что надеялся найти в мире, криво ухмыляющемся над чувствами тех, кто еще не превратился в роботов и полуавтоматов?..
Он провалился в тяжелое небытие, напоминающее серо-зеленую вату, сквозь которую не проходили ни звуки, ни чувства, ни даже ощущения. Продолжал работать только мозг. Он напоминал ему сейчас механизм, который забыл выключить пьяный в дым механик. Этот механизм скрипел и лязгал на холостых оборотах. Это был своеобразный перпетуум-мобиле, приводимый в движение неведомо откуда берущейся энергией разрушения.
Он встрепенулся, услышав жужжание домофона. Щелкнул выключателем торшера и глянул на циферблат часов на каминной полке. Половина двенадцатого. Маша обычно заканчивает к двенадцати сорока. К тому же у нее есть ключи. Кто бы это мог быть?
Жужжание повторилось. В нем слышались настойчивость и решительность. Анджей протянул руку и снял трубку.
— Мистер Смит, мне необходимо поговорить с вами. Я — Бернард Конуэй.
— За каким чертом вы… — начал было Анджей, но голос в трубке не дал ему закончить фразу:
— Это касается вашей дочери. Откройте мне дверь.
Бернард вошел в гостиную, распространяя запах коньяка и какого-то очень дорогого лосьона после бритья. Он был худой, загорелый и явно чем-то возбужден. Не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло возле камина и закурил сигарету. Анджей сделал глоток виски и забрался с ногами на диван.
— Мистер Смит, я считаю вас виновником трагедии, случившейся с вашей дочерью, — заговорил Бернард уверенным тоном. — Да, да, именно трагедии — иным словом ее теперешнюю жизнь не назовешь. Но в вашей же власти и помочь ей изменить эту жизнь самым коренным образом. Что касается меня, то я готов принять любые условия мирного соглашения.
— Мы с вами, насколько я помню, не воевали. И вообще, я вижу вас впервые. — Анджей повернул голову и сделал вид, будто внимательно разглядывает Бернарда Конуэя, на самом деле он не видел с такого расстояния его лица: Анджей Ковальски смолоду был близорук. — Вас любят женщины, а потому самоуверенность в вас преобладает над истинно мужественным началом, — изрек он. — Полагаю, моя дочь вполне способна разобраться сама…
— Мистер Смит, давайте лучше оставим словоблудие и перейдем к делу, — Бернард положил ноги на столик возле кресла, и стоявший на нем букет роз осыпал лепестками его модные дорогие штиблеты. — Я принес вашей дочери выгодный контракт, и я готов даже удвоить его сумму, если она согласится немедленно приступить к делу.
— Мне всегда хотелось спросить у вас… — Анджей потянулся к стакану, но, обнаружив, что он пуст, махнул рукой и сел, привалившись спиной к подушке. — Вы, вероятно, меня не поймете. И тем не менее я не могу лишить себя удовольствия задать вам этот вопрос. Скажите, мистер Конуэй, вы, американцы, верите в романтизм жизни? Хотя нет, не отвечайте — я сам за вас отвечу: в Америке под романтизмом понимают любовь ко всевозможного рода авантюрам, в результате которых человек становится богатым и покупает все жизненные блага, в том числе и женщин. Это очень надежный способ обезопасить себя от душевных мук и страданий, однако…
— Мистер Смит, прошу прощения, но у нас с вами еще наверняка будет время побеседовать на предмет того, как преуспеть в этой жизни и как стать хроническим неудачником. Меня, признаться, тоже всегда волновала эта тема, но мы, американцы, предпочитаем заниматься философией на профессиональном уровне. Вообще, как вы могли заметить, Америка выгодно отличается от той же Европы тем, что у руля ее экономики, политики, науки и даже культуры стоят крепкие профессионалы, а не отставные военные, неудавшиеся писатели и просто бездельники. — Бернард достал из кожаной папки листок бумаги и положил его на стол, прямо на лепестки роз. — Нам с вами досталось от этих самоуверенных янки, — сказал он примирительным тоном. — Но я далек от того, чтобы винить вас в том, что вы заварили эту кашу. Тем более судьба вашей дочери мне очень не безразлична. — Кажется, Бернард вздохнул, по крайней мере в его глазах что-то вспыхнуло и тут же погасло. — Она очень талантлива. Я хочу, чтобы ее голосом восхищался весь мир, а не только эти пузатые сицилийцы с мозгами неандертальцев.

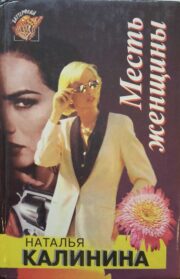
"Месть женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Месть женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Месть женщины" друзьям в соцсетях.