— Вы сами прекрасно знаете, что не может, — отрубила женщина, даже не подумав повернуться лицом к своему собеседнику. — Он не убийца, а всего лишь исполнитель Божьей воли.
Следователь кашлянул в кулак. Лицо его скривилось в ироничной гримасе.
— Допустим. Тогда зачем вы сюда приехали? Я предлагал вам остановиться в гостинице в N. На формальности уйдет не больше двух суток. Цинковый гроб…
— Никаких цинковых гробов, — подал голос молчавший до сих пор Дориан Грей. — Мы решили похоронить сестру там, где она погибла. Это наше право, верно?
— Это беспрецедентный случай в моей практике! — Следователь вскочил с дивана и закурил папиросу. — Существуют какие-то этические нормы. Многие обивают пороги, добиваясь выдачи тел своих умерших в заключении родственников, чтобы похоронить их в родной земле. А ведь это подчас закоренелые преступники и даже убийцы. Это девушка стала жертвой…
— Она не жертва, — перебила следователя мать Инги. — Вы ничего про нее не знаете. Она погубила столько человеческих душ.
— Меня ваша поповская мистика не интересует, — сказал следователь, слегка повысив голос, но все еще сохраняя самообладание. — Поступайте как знаете. Мне еще нужно допросить кое-кого из здешних. Увидимся завтра в девять.
Он вышел, оставив после себя запах дешевых папирос.
— Господи, услышь мои молитвы и огради нас от скудоумия и прочего непонимания. Да будет на все воля твоя, — произнесла женщина, придвигая к себе чашку с чаем. — Спасибо, хозяюшка. Вы уж не взропщите на Всевышнего за то, что он избрал вас и ваших близких в участники и свидетели своего справедливого суда. — Она внимательно посмотрела на Ваню. — Вижу, тебя она выбрала своей очередной жертвой. Господь да воздаст тебе сторицей за то, что ты сумел противостоять злу. А ведь ты еще совсем малое дите, отрок. Ну, да пути Господние неисповедимы.
Ваня заметил, что Дориан Грей бросил на него откровенно восхищенный взгляд, но лицо его при этом сохранило надменно брезгливое выражение. Ему сделалось не по себе.
— Я должна рассказать вам все без утайки, — говорила мать Инги, намазывая маслом ломоть хлеба. — Это мой святой долг перед теми, кто взвалил на свои плечи нелегкое бремя активного противостояния злу. Толстовское учение о непротивлении нанесло непоправимый вред православию. Впрочем, это долгий богословский разговор. Мы продолжим его потом, если, конечно, вы захотите.
Женщина полезла в сумку, которую повесила на спинку стула, и достала несколько фотографий в старом пожелтевшем пакете.
— Взгляни, — сказала она, передавая их Ване. — Они у меня близнецы, но ты видишь разницу?
Мальчик на фото был кудряв, белокур и пухлощек. Он улыбался в объектив, умудрившись сохранить при этом важное выражение. Волосы девочки лежали прямо, губы сжались в нитку, в глазах застыло выражение непокорности, точно ее заставили сниматься силой.
— Я всегда держала ее, когда приходилось делать снимки, — пояснила мать Инги. — Она ненавидела объектив. Я не сразу догадалась, в чем тут дело.
— А в чем? — вырвалось у Вани.
Дориан Грей бросил в его сторону почти разочарованный взгляд, но тем не менее соизволил объяснить:
— Бог провел черту, отделяющую добро от зла. Мы находимся по одну ее сторону. Она жила по другую.
Ваня рассматривал карточки, все меньше узнавая на них ту Ингу, которую встретил в летнем кафе возле «Литвы». Черные прямые волосы. Всегда плотно сжатые губы. Недобрые колючие глаза.
— Ты увидел ее совершенно другой, — словно читая его мысли, сказала женщина. — Она оборотень. Тебе известно, что это такое?
Ваня рассеянно кивнул.
Женщина между тем продолжала:
— По молодости лет я увлеклась одним человеком старше меня больше чем вдвое. Он был богат, очень богат, а я была тогда совсем девчонкой, и на меня еще не сошла Господняя благодать, хоть разумом я и почитала Господа нашего Иисуса Христа, но слова молитвы повторяла как попугай, ибо их сокровенный смысл еще был сокрыт от меня. Этот человек оказался не просто негодяем — он был из того мира за чертой, прочерченной нашим Господом. Он силой удерживал меня у себя в доме и пытался перетащить за эту самую черту. Увы, я поняла это не сразу, и за это Господь меня справедливо покарал, сделав матерью Инги, но он же послал мне и весть о прощении. — Она повернула голову и долгим любовным взглядом посмотрела на сына. В густой бирюзе ее глаз что-то дрогнуло, и она слегка помутнела. — Несчастная, принявшая на моих глазах нечеловеческие муки, умерла во имя того, чтоб спасти мою душу. Умирая, она вспоминала нашего Господа…
— Это неправда! — послышался негромкий, но решительный голос. В комнату шагнул Толя. — Марья Сергеевна, Машина мать, не верила в Бога. Она верила только в любовь. Она умерла с этой верой. Я был при ее последних минутах в том страшном доме.
Женщина медленно встала. Ее лицо осталось все таким же каменно невозмутимым, но покрылось розовыми пятнами.
— Ты? Кто это — ты?
— Тот самый самаритянин, которого когда-то давно подобрал на дороге твой отец Никита. Ты была привязана к большому кресту, а это чудовище сцеживало по капле кровь из бедной жертвы. Ею была твоя бабушка, — сказал Толя, обращаясь к Ване. И тут же снова повернулся к матери Инги. — Я хотел его убить, но ты заступилась. Ты сказала, что беременна и он отец твоего ребенка.
— Я проявила слабость. — Женщина устало опустилась на стул. — И понесла за это суровую расплату. Но Господь так милостив. Он послал мне двойню, чтобы брат мог искупить грехи сестры.
— Он безразличен к тому, как мы живем, — перебил ее Толя. — Он потерял к человеческому роду какой бы то ни было интерес, потому что мы не оправдали его надежд.
— Вы абсолютно правы, — подал голос Дориан Грей. — Среди нас оказалось слишком много непротивленцев злу.
— Нет, молодой человек, дело не в этом. Бог допустил серьезный промах, решив, что мужчине будет скучно одному на Земле. Как вам известно, он создал из его ребра женщину. Будучи, как и все творцы, существом двуполым, он даже представить себе не мог, что такое настоящая любовь. Я имею в виду любовь мужчины и женщины. Их взаимная тяга друг к другу. И потому в гневе отступился от человеческого рода, бросив нас на произвол судьбы.
В купейном вагоне поезда «Вильнюс — Ленинград» было тепло и пахло чистым бельем. Двое попутчиков Яна — мужчины неопределенного возраста — сели буквально за две минуты до отправления. Четвертое место оставалось пустым. Один из мужчин, едва тронулся поезд, достал из портфеля бутылку коньяка и, кивнув лежавшему на верхней полке Яну, предложил:
— Давай на троих. На двоих будет многовато.
Ян, поколебавшись несколько секунд — не любил он крепкие напитки, тем более, на ночь глядя, — все-таки спрыгнул вниз. Он уже успел переодеться в тренировочный костюм, и оба мужчин не без зависти смотрели на его гибкое стройное тело.
За рюмкой завязалась беседа. Ян сказал попутчикам, что ездил в Вильнюс, где когда-то родился, узнать хоть что-то о своих пропавших в войну родителях. Но, увы, безуспешно. А теперь едет к приемным в Ленинград.
Мужчина с родинкой на виске и уверенными — панибратскими манерами, сказал, что его ведомство, закрытый НИИ, подчиняющийся непосредственно Министерству обороны, как раз занимается поиском пропавших во время войны людей, причем довольно успешно. И тут же пообещал оказать содействие.
— Правда, чаще мы находим их могилы, — добавил он и предложил тост за, как он выразился, «священные холмики земли, под которыми покоятся бренные останки нетленных душ».
Выпили, закусили бутербродами с сыром и колбасой, которые достал из полиэтиленового пакета второй мужчина, назвавшийся Антоном Мстиславовичем. Ян выложил на стол яблоки и пачку печенья. Слово за слово, и он незаметно рассказал своим попутчикам, что когда-то плавал старпомом на грузовых судах, знает, хоть и успел изрядно подзабыть, английский и немецкий.
Попутчики слушали внимательно и заинтересованно. Похоже, они были не знакомы между собой, хотя из разговора выяснилось, что Антон Мстиславович тоже военный и того, с родинкой, он звал просто — Палыч.
Беседа коснулась афганской войны, и Палыч сказал, что Советскому Союзу давно пора начать расширять свои границы.
— Идет очередной передел мира, — разглагольствовал он, размахивая стаканом с коньяком. — Либо мы, либо Соединенные Штаты. Они спешно прибирают к рукам Латинскую Америку и Ближний Восток. К тому же Афган необходим нам как учебный полигон для испытаний новых видов оружия. Американцы, как известно, использовали для этих целей Вьетнам.
Антон Мстиславович мягко, но решительно не согласился с Палычем — он, как решил Ян, определенно представлял в Советской Армии «голубей», которых их противники — «ястребы» — называли «пятой колонной» и «Пентагоном». Он заметил, что американцы, обжегшись на вьетнамской войне, коренным образом изменили тактику, превратившись в глазах мирового сообщества из хищных акул чуть ли не в безобидных дельфинов, и Советский Союз таким образом невольно стал выглядеть мировым жандармом.
Они горячо между собой заспорили. Палыч плескал коньяком на белую скатерть с фирменной картинкой и вензелем и называл Антона Мстиславовича — в шутку, разумеется, — «агентом ноль-ноль семь». Ян помалкивал: беседа занимала его лишь с этической точки зрения, ибо он давно и бесповоротно решил для себя, что война в Афганистане есть не что иное, как коварная агрессия против маленького соседа. К тому же он жалел наших парней, бессмысленно гибнущих там.
— Вот ты, Иван, человек штатский, рассуди: кто все-таки из нас прав? — спрашивал Палыч, пьяненько поблескивая очками в тонкой золотой оправе. — Мне лично кажется, что чем больше территорий мы покорим, тем станем сильней и непобедимей. Так, между прочим, считали все русские цари. Да и Сталин тоже. Это Ленин разбазаривал направо и налево русские земли. А на мировое сообщество я прибор положил. Кто сильней, тот и прав. Так было, есть и будет.

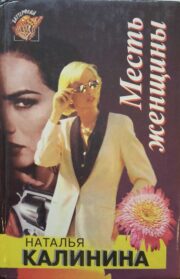
"Месть женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Месть женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Месть женщины" друзьям в соцсетях.