Он жил в этом доме-замке на неприступной скале уже две недели. Тэлбот, вернее, то, что от него осталось, лежал где-то поблизости, опутанный всевозможными проводами и шлангами под неусыпным надзором медперсонала.
Такова была его воля, изложенная в завещании: старик хотел умереть дома. Его внук, молодой нейрохирург Эдвард Тэлбот, прилетел, чтобы констатировать тяжелейшее кровоизлияние в мозг и гематому, и тут же улетел на международный конгресс в Лиссабон.
Огромное поместье жило прежней — налаженной и изолированной от окружающего мира — жизнью. Словно ничего и не случилось. Сьюзен Тэлбот находилась в частной клинике профессора Куина где-то на севере штата Колорадо. Она не откликнулась на телеграмму с сообщением о тяжелом состоянии отца.
Поместье, судя по всему, обслуживало большое количество слуг, но Бернард общался только с горничными и конюхами — каждое утро ему подавали лошадь для верховой езды. Ему совсем не хотелось уезжать из этого царства ирреального оцепенения и покоя, тем более что много времени он проводил наедине с Машей.
Она занималась станком либо танцевала под музыку, льющуюся неизвестно откуда, не обращая на него, Бернарда Конуэя, никакого внимания. Днем после ланча они молча сидели на лужайке под тентом, куда одетая в костюм тирольского пастушка молоденькая служанка приносила соки и мороженое. Потом так же молча брели аллеей, обсаженной можжевельником и молодыми соснами, — она пролегала вдоль края скалы, образуя кольцо в две — две с половиной мили. Маша всегда первая просовывала правую руку под левый локоть Бернарда и молча шла рядом, глядя куда-то вдаль.
Сейчас она закончила танец, подняла голову и улыбнулась Бернарду.
— Знаешь, я только что была в «Солнечной долине». Мы с Толей поднялись в старую беседку, смотрели на море, молчали, и оба, я чувствовала, мечтали об одном — о том, чего не может быть на самом деле. Берни, почему этого не может быть на самом деле?
Он спустился по лестнице, она подошла к нему и прижалась всем телом. Последнее время она часто прижималась к нему всем телом, как бы ища защиты, и ни разу Бернард не почувствовал волнения ее плоти.
— Моя милая девочка, как жаль, что там, в «Солнечной долине», с тобой был не я, а этот деревенский увалень Анатолий. Мы бы наверняка воплотили в жизнь все наши мечты.
— Нет, Берни, ты сам знаешь, что это не так. Но кто-то же есть на этом свете, кто думает и чувствует так, как думаю и чувствую я. Берни, мне очень хочется, чтобы этот человек был со мной рядом.
Бернард вздохнул.
— Милая Маджи, этот мир не просто свихнулся, а превратился в монстра, пожирающего тех, кто живет не по его безумным законам. Я понял это совсем недавно. Как жаль, что раньше я не задумывался над этим. Но если мы будем вместе, мы будем жить как ты хочешь. Как хочу я. — Он взял ее на руки и, пройдя по самому краю искусственной лагуны, стал подниматься по лестнице.
Войдя в комнату, Бернард бережно положил Машу на кровать и сказал, глядя на нее сверху вниз:
— Я очень хочу тебя, но совсем не так, как хотел раньше. Ты нужна мне каждую минуту. Это какое-то эгоистическое чувство, потому что я хочу быть счастливым вопреки всему. Даже вопреки твоему ко мне равнодушию. И я буду счастливым, слышишь?
Маша его не слышала. Она спала. Во сне она была похожа на хрупкую фарфоровую куклу из витрины роскошного магазина — Бернард совсем недавно видел такую в Париже.
Он устроился на ковре рядом и положил голову на край кровати.
— Мне здесь нравится, — сказала Ева. — Я буду жить в этой келье. Не возражаешь? Но зимой нам придется спать в одной комнате — зимой будет холодно.
— Я сложу печку и запасу дров. Я не могу ни с кем спать в одной комнате еще с тех пор…
Он замолчал и опустил голову.
— С каких? — спросила Ева.
— С тех пор, как я служил во флоте, — отведя глаза в сторону, едва слышно произнес Ян.
— Ты скрытный. Не то, что я. — Ева закрыла глаза и что-то прошептала. Что — Ян не расслышал. Потом вдруг сказала громко, почти выкрикнула: — Но мне здесь будет плохо. Потому что ты… не хочешь меня любить.
Ян ничего не сказал, подумал: сейчас лучше всего заняться делом, и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.
…Они сорвались с места внезапно, видимо, оба боялись передумать. Ева провела весь день в пещере, куда Ян привез ей еду и кое-какую оставшуюся от матери одежду. Он сообщил ей, что никакого переполоха по поводу ее отсутствия никто и не думал поднимать и что ее муж уехал с утра в Гагры. Сглотнув слезы, Ева сказала:
— Как хорошо, что я нашла тебя. Я бы не пережила…
У них были две небольшие сумки с одеждой. За годы работы в санатории Ян накопил кое-какие деньги — все это время он с матерью жил на всем готовом, каждый сезон Яну выдавали джинсы, две тельняшки и кроссовки. Сложнее оказалось с Алеко — Ян не мог оставить собаку, к которой привязался всей душой, даже на своего друга Рафаэля. Ехавший на машине к родственникам в Ростов племянник Армена согласился подбросить всех троих.
До Саратова они доехали поездом. Почему именно до Саратова, Ева не знала: Ян сказал ей об этом, уже когда купил билеты. Они отправили с вокзала в Ростове две телеграммы — в Москву и Ленинград родителям.
В Саратове они накупили консервов, хлеба, пакетов с сухими супами и еще кое-каких продуктов, рюкзак, который повесил себе на спину Ян, весил пуда четыре, и углубились в березовый лес в сторону от трассы на Москву.
Ева спросила всего один раз:
— Куда?
И Ян ответил:
— Туда, где нам обоим будет хорошо.
К этому полуразрушенному монастырю на невысоком холме они вышли на третьи сутки. Увидев его, Ева упала на колени и расплакалась. Алеко обежал все закоулки, вспугивая ежей, куниц и прочих зверушек. Судя по всему, монастырь был не только заброшен людьми, но и давным-давно ими забыт. Кое-где с бурых с зеленоватыми потеками стен церкви без купола смотрели полустершиеся лики святых. В двух кельях сохранились ржавые железные койки. В сарайчике Ян обнаружил топор без топорища и еще кое-какие необходимые в хозяйстве инструменты. И, что самое главное, несколько целых оконных стекол. Под трухлявыми досками, обжитыми мышами-полевками, оказался сундучок самых настоящих восковых свечей. Это был сказочный подарок. На следующий день они обнаружили, что в большом, заросшем кувшинками пруду с южной стороны можно не только купаться, но удить рыбу и ловить раков.
Лето выдалось жарким и ягодным.
Днем они почти не виделись, каждый занятый своими делами. Ян готовился к зимовке: вставлял окна, клал печь, используя валявшиеся повсюду обломки бывшей кладки, чинил ворота, заготавливал дрова. Ева купалась с Алеко в пруду, собирала ягоды, ловила рыбу, варила обед, служивший им одновременно и ужином.
Они трапезничали возле костра под открытым небом, глядя на звезды и думая каждый о своем. Но долго так продолжаться не могло — лето в средней полосе скоротечно, и уже августовские ночи заставляют поближе придвигаться к огню и прятаться под крышу от холодных рос и туманов. Последнее время по вечерам они зажигали в келье Евы толстую серую свечу, разговаривали, читали на память стихи. Ева помнила много сонетов Шекспира и Петрарки. Но больше всего ей нравилось разыгрывать сцены из «Ромео и Джульетты». Она была одинаково хороша в ролях обоих любовников, каждый вечер привнося что-то новое и еще более трагичное в их, с точки зрения Яна, слишком многословные и тривиальные своей чрезмерной досказанностью монологи. Но Ян любил слушать Еву. С каждым проведенным вместе вечером в его душе просыпались новые чувства и ощущения, все больше и больше примиряющие его с этим миром, в котором и он, Иван Лемешев, оказывается, тоже занимал какую-то нишу. Да и к этой странной девушке его влекло все больше.
Снова в нем заговорил собственник, и он понял в один прекрасный момент, что ревнует Еву даже к Алеко, с которым она очень сдружилась и проводила целые дни. Он попытался было проанализировать свои чувства к ней, вспомнил годы, прожитые вдвоем с матерью и отмеченные болезненно напряженным недоверием, ревностью. Зачем он стерег мать точно цербер, не разрешая встречаться с отцом?..
Что-то непонятное произошло с ним после того, как из его жизни исчезла Маша.
Теперь, вспоминая тот день, когда она открыла ему дверь своей квартиры, как-то виновато и жалко улыбнулась и отвела в сторону свои прекрасные, но какие-то чужие глаза, Ян почти не испытывал головной боли — лишь слегка покалывало в затылке и слегка немели ноги. Он знал: это последствия гипноза. Годы, проведенные в скиту с Лидией, слились в один зеленовато-сизый туман, который заполнил его тело и все пространство вокруг. В нем еще оставался этот туман, но эта девушка, сама того не ведая, его растворяет. Он понял это еще тогда, в пещере, а потому не захотел отпустить ее от себя.
То, что он к ней испытывал, на любовь не похоже. На ту любовь, которую он чувствовал к Маше.
Плоть его молчит и, наверное, никогда уже не заговорит. Но эта девушка ему нужна. Очень. Без нее его снова окутает с ног до головы этот густой зеленовато-сизый туман.
Он вздрогнул, вдруг ощутив странный холодок внизу живота. Словно там обитало какое-то живое существо, и оно просилось выйти наружу. Ян положил на землю топор и прижал к животу ладонь. Там на самом деле что-то шевелилось и слегка ныло. Это было приятное ощущение, когда-то давно он его уже испытывал. Он лег на траву, раскинув руки и подставив лицо серому, брызгавшему редкими каплями дождя небу — и весь отдался этому ощущению. Он почему-то думал сейчас о Еве, купавшейся нагишом в пруду. Он видел это случайно: в первый раз, когда чинил ворота, а во второй — когда косил траву на опушке, чтобы набить ею матрацы. Он закрыл глаза. Нет, это была не Ева, а Маша, хотя свою сестру он никогда в жизни не видел нагой. Зато нагой он видел Машину мать, эту удивительную женщину, в которую, как выяснилось, безумно был влюблен его отец и от которой ушел, все еще любя ее.

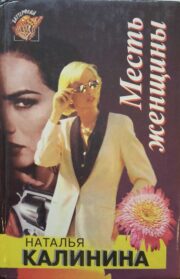
"Месть женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Месть женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Месть женщины" друзьям в соцсетях.