— Это которыми на Арбате торгуют? Нет, не буду. Главное, знал почему воюю, кто враг и за что умру, если не повезет. Нашим бы ребятам это сегодня знать...
— Мясо... — вяло сказал Гоша.
— Что-что? — не понял Анатолий Федорович.
— Ничего особенного. Просто, судя по всему, на кухне горит мясо.
Юля, вскрикнув, опрометью кинулась на кухню, откуда действительно начал доноситься запах гари. За ней побежала и Катя. Через секунду послышалась громкая возня, грохот сковороды.
— Ну вот, сейчас еще и сгорим все... вместе с мясом, орденами, воспоминаниями и прочей требухой. — В голосе Гоши чувствовалось торжество.
— Праздничный ужин отменяется, — грустно известила Юля, стоя на пороге комнаты. — К желающим отведать пустых салатов просьба поднять руки. Что, нет желающих? Баба с возу — коню легче.
Казалось, Анна Степановна, задумавшись, не обратила особого внимания на происшедшее. Она вздохнула и тихо заговорила:
— Иногда к нам в больницу привозят ребят из этих... «горячих точек». Мне один паренек раз и говорит: «В меня, бабушка, наш, русский, стрелял. За деньги, подлец, из меня инвалида сделал».
— Кстати, я с Аней, Анной Степановной, тоже в госпитале познакомился, — заулыбался Анатолий Федорович. — После войны, когда осколочек доставали. Она была, как сейчас, медсестрой. А ваш покорный слуга был студентом четвертого курса истфака областного пединститута, МОПИ сокращенно.
Зубков, воспользовавшись отсутствием Кати, смущавшей его не просто своим взглядом или словами, но даже и просто присутствием, достал неизвестно зачем блокнот и ручку, положил аккуратно на стол и вклинился в разговор:
— Вопрос по ходу дела можно, Анатолий Федорович? Папочки свои вы давно начали собирать?
— А-а... К делу перейти не терпится, Михаил Васильевич? Скоро дойдем, но сначала я про себя в конце пятидесятых — начале шестидесятых расскажу, потому что без них этих самых папочек не понять.
Гоша наклонился к Маше:
— Сейчас про Сталина начнет, спорим?
— Кузен, помолчи, — мягко улыбнулась она.
— Да, Сталин... — продолжил Анатолий Федорович. Гоша тихо прыснул. — Он для одной части моего поколения как крест, а для другой — до сих пор знамя. Хотя вообще-то и для них крест. Я иногда по ночам просыпаюсь и думаю, думаю: как же это могло случиться, что человек моего отца убил, мать в ссылке старухой сделал, а я все это знал и все равно ему верил и даже любил. Ей-богу, любил! — Он достал из кармана смятую бумажку. — Я это в день его смерти написал, между прочим в первый и последний раз в жизни в рифму. — Анатолий Федорович отнес бумажку подальше от глаз, прищурился. — «Умер Сталин, руке непослушно перо, кровью пишутся эти слова, а в залитых слезами глазах — лицо, дорогое лицо вождя. Кем он был нам: учителем, другом, отцом? Он был всем. Он как будто бы сам был сиянием жизни, ее творцом, идеалом всем честным сердцам. Помнишь, друг, его имя шептала тебе, над кроваткой склонившись, мать. Помнишь, имя его произнес твой отец перед тем, как ушел умирать. Шли года, ты учился, работал, любил твою родину, твой комсомол, ты... »
— Анатолий Федорович, миленький, ну не надо, — первой не выдержала Маша, зажимая ладонями уши. Гоша сотрясался в приступе бесшумного хохота.
— Хорошо, не надо. Скверные стихи, верно. — Он бережно спрятал бумажку в карман.
— А мне понравилось, — заступился Зубков. — Рифма, может, и так себе, а душа есть, и это самое главное. И про отца и мать — здорово. Я вот на митингах работаю, так там всякого про этого Сталина наслушался. Коммики — те все про порядок, а демроссы про лагеря. А что, разве не может быть порядка без лагерей? В Штатах может, в Люксембурге может, а у нас — нет?
— Мы все с вами согласны. — Маша уже устала и очень хотела домой.
— Вот Екатерина Анатольевна, по-моему, не согласна, — пробормотал Зубков.
— Я просто не понимаю, зачем ты... вы здесь. — Катя была вне себе: сначала это сгоревшее под ее чутким руководством мясо, а теперь — пытающийся заигрывать Зубков.
— Он пришел по моему приглашению, — в свою очередь заступился Анатолий Федорович. — И прошу моего гостя не обижать. А про Двадцатый съезд на митингах еще говорят Михаил Васильевич?
— Нет, забыли все давно.
— А я вот не забыл. Ведь он всю жизнь мою перевернул, Двадцатый. Я был рядовым членом партии: на фронте вступил. А после Двадцатого — я тогда уже в институте истории работал — мы все, кто помоложе, стали называть себя его детьми. Это время было самым счастливым в моей жизни. Аня, помнишь?
— А то нет. На крыльях тогда летал.
— Все летали. Ведь то, что произошло тогда со мной и с моими друзьями, было чудом! Мы себя вдруг... коммунистами почувствовали. Не рядовыми той сталинской гвардии, а мыслящими, умными, гуманными коммунистами. Евтушенку цитировали, Окуджаву пели.
Маша задумчиво продекламировала:
— «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...»
— Да-да, это была наша любимая, — подхватил Анатолий Федорович. — Такое настроение было. И не помню уже, у кого возникла эта идея: написать новую историю партии — объективную, честную, правдивую до мелочей. Чтобы ни одно, как говорится, достижение не пропало, — а я и сейчас считаю, что они были, — но и чтоб вся правда как на ладони. В общем, лозунг был такой: «ничего не охаивать, но и ничего не утаивать!»
Гоша только покачал головой, Сергей попытался скрыть улыбку. Анатолий Федорович встал, сделал несколько шагов, нервно потер руки:
— Но я же говорю, что мы в чудо верили. И пошли к начальству, и оно нас поддержало, хотя все было прежнее, сталинское. Но чего у них не отнимешь, так это то, что если был приказ верить в чудо, то они становились во фрунт и гаркали: «Есть!»
— М-да, а теперь становятся во фрунт и гаркают: «Нет!» — все засмеялись над Гошиной шуткой.
— Дед, ну все понятно: вас обманули, книгу вашу запретили, да еще, наверное, в антисоветчине обвинили, — сделала предположение Юля.
— Обвинили одного руководителя нашей группы Наума Пташникова, его тоща из партии выгнали.
— А его, — Анна Степановна кивнула на мужа, — в шестьдесят восьмом, за Чехословакию. У них тоща партсобрание было, я ему говорила, чтобы не ходил, а он не послушался и проголосовал там против.
— Не против, Аня. Не делай из меня героя. Я всего лишь воздержался. Но и этого было достаточно. Кстати, вот жизнь: человек, который тогда меня выгонял из партии и института, — это тот самый, что в собесе помер. А мне, представляете, его жалко.
— Ну и зря, — холодно проговорил Гоша.
— Сострадание, Гоша, не бывает зря или не зря.
Юля слушала Анатолия Федоровича с неподдельным интересом, положив голову на сложенные на столе руки.
— Дед, а что было потом? — спросила она.
— А потом началось застолье, которого у нас сегодня, увы, уже не будет, — опять влез Гоша.
Катя недовольно посмотрела на него:
— Сиди со своим застольем. — И добавила тихо, наклонившись к самому Гошиному уху: — Сегодня, наверное, он скажет, кто взял эту самую папку. Не зря же здесь Зубков.
— Так что же было потом, дед? — переспросила Юля. — Ты стал диссидентом?
— Я? — Анатолий Федорович покачал головой. — Нет, я в школу ушел и тянул там до пенсии. А диссиденты... Не собирался об этом вспоминать. Тяжело и стыдно. Но, наверное, придется. В начале семидесятых повадился я каждое пятое декабря в день сталинской конституции на площадь Пушкина ходить. Там собирались они, диссиденты во главе с Андреем Сахаровым и Петром Григоренко.
Юля приподняла брови:
— И что они делали?
— А ничего. Только ровно в шесть снимали шапки. Ну, это был как бы салют тем их товарищам, кто сидел в лагерях и тюрьмах, и еще протест против нарушений прав человека, записанных, кстати, в этой самой конституции.
— Ну и протест... Кепочку снял — и привет, — пожал плечами Гоша. — Мы в августе у «Белого дома» тоже собирались, так там не только кепки приподнимали.
— Ты не прав, Гоша, — возразил Анатолий Федорович, — та кепочка стоила ничуть не меньше. Представь: кругом гебисты, милиция и эти... с повязками.
— Дружинники, что ли? — подсказал Сергей.
— Черт их знает. Но от них исходила какая-то животная ненависть и злоба к этой кучке диссидентов. А Андрей Дмитриевич снимал шапку, и снег падал на его голову. Ну а я стоял поодаль и смотрел. Мне хотелось подойти к ним, встать рядом, но я не смел. Боялся. А Наум Пташников был среди них. У него тоже двое детей. И так продолжалось несколько лет. Я смотрел, а они стояли с непокрытыми головами под улюлюканье дружинников. Один раз я набрался смелости и подошел к Андрею Дмитриевичу. Он был окружен людьми. Я протиснулся, схватил его руку и пожал. Он сказал, не знаю, мне или кому-то еще: «Если вы хотите позвонить мне, то мой телефон такой-то». Я тогда записал, но так и не позвонил ни разу. — Анатолий Федорович умолк. Посидел как-то уже совсем по-стариковски ссутулившись. — Ну а потом пришел Горбачев, и я снова воспрянул. Конечно, уже не было прежней молодости, энергии, да и здоровье стало пошаливать. Но у меня ведь были мои папки, а в них документы, которые я скопил за долгие годы! И я решил, вот выйду на пенсию и осуществлю нашу старую идею: напишу правдивую, честную историю партии. Пусть на глобальную силенок уже не хватит, но хотя бы для таких, как моя внучка.
— А Наум Пташников? — поинтересовалась Юля.
— Он уехал... Да почти все из той нашей группы к тому времени или уехали, или умерли, а кое-кто сделал карьеру, в ЦК уже работал. В общем, я стал готовиться к этой книге, составил план, сделал черновые наброски, писал заявки. На это ушло два года. А потом начал ходить по издательствам. Прихожу в одно, другое, мне говорят: «Извините, но нас эта тема уже не интересует». Понимаете, не «нельзя», не «еще не время», как раньше, а просто «не интересует» — и все. «Как же так, — говорю, ведь молодежь должна это знать!» «А молодежь, — отвечают, — сейчас другими вещами интересуется. Да и бумага стала дорожать». А одна дама прочитала мою заявку и сказала: «Знаете, все лагеря и расстрелы нам уже надоели. Хочется чего-то свеженького». Да что эта дама... Я своему сыну хотел кое-что почитать, а он: «Прости, отец, но меня уже не волнует, что сказал Бухарин Сталину и что ответил Ленин Троцкому, у меня свои проблемы».

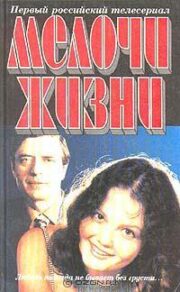
"Мелочи жизни" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мелочи жизни". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мелочи жизни" друзьям в соцсетях.