— Подходящий, подходящий. — Тяжело дыша, по-пластунски пячусь от окна. Болезненно морщусь — сизалевый коврик здорово ободрал соски. — Может, зайдете, посмотрите?.. — Выпрямляюсь, держась за вешалку для верхней одежды, срываю с крючка жакет и плотно в него заворачиваюсь. — Вдруг комната не понравится? Или я не понравлюсь, — добавляю с нервным смешком.
— Когда?
— М-м… на той неделе? — Пытаюсь выиграть время. Надо ведь толком попрощаться с новыми кастрюлями.
— А если завтра?
— Завтра? — взвизгиваю я.
— Простите, не сообразил. Завтра суббота, у вас, вероятно, планы на вечер.
— М-м… в общем-то…
Страшная правда в том, что нет у меня никаких планов. Я одинокая женщина. Мне светит сидеть дома. Одной в четырех стенах. В субботу вечером.
— Простите, я, наверное, веду себя как типичный янки? Слишком настырно? — Голос в трубке спасает меня из пучины самоуничижения.
— Да, то есть нет, нет… ничего подобного.
Хизер, возьми себя в руки! Вспомни про кредитку. Про счета за квартиру. Про то, что ты дала объявление несколько недель назад, а это первый звонок.
— Завтра в самый раз!
— Ну зашибись.
— М-м… да… зашибись. — Вот вам еще одно словцо, которое нормально звучит только в устах американца.
Пауза.
— Мне бы… адрес.
— Ах да, адрес… конечно! — Я тараторю так быстро, что Гейб дважды переспрашивает.
— Спасибо. Тогда до завтра. В семь нормально?
— Договорились, до завтра.
Положив трубку, прислоняюсь к стене. Как быстро все происходит, голова кругом. Делаю несколько глубоких вдохов. Вода с волос струйками бежит по спине, и, хотя в прихожей больше двадцати градусов, я вся дрожу. Сую руки в карманы, чтобы поплотнее запахнуть жакет, и на что-то натыкаюсь. Вроде бы мягкое, но царапается. Озадаченная, вытаскиваю «что-то». Дурацкий вереск на счастье. Как он здесь оказался?
Иду к входной двери — в углу я держу корзину специально для рекламного мусора — и уже собираюсь выбросить веточку, но тут замечаю на коврике пакет. Черт бы побрал рекламщиков, наверняка опять пробники: растворимый супчик с термоядерным усилителем вкуса или кусок мыла от всех проблем кожи… нет, погодите! Это же одноразовые бритвы. Вы представляете? Теперь не придется разгуливать в образе пещерной женщины!
Вне себя от радости несусь в ванную, уже тянусь к бритве, чтобы сменить лезвие… и только тут понимаю, что все еще держу в руке веточку вереска. Почему-то никак не могу от него избавиться. Правда, что ли, волшебный? Волшебный?! Саркастически улыбаюсь. Хизер Хэмилтон, что на тебя нашло? Никакого волшебства, обычный цветок. Или злак?
Задумчиво кручу веточку в пальцах. Даже если отбросить цыганский треп, вереск и сам по себе довольно милый. Жалко выкидывать. Налив воды в колпачок от дезодоранта, пристраиваю веточку и отправляю эту икебану на подоконник. Пусть себе стоит.
Глава 6
Берег реки Эйвон. С десяток начинающих художников сгорбились над деревянными мольбертами, обложившись связками кисточек и тюбиками с масляной краской. Перед ними бескрайняя панорама Шропшира. Небо, поля, река — их задание на сегодня. Занятия проводятся в рамках летней школы, организованной художественным колледжем Бата. Ученики приехали сюда аж из самого Техаса. С ними работает Лайонел — рослый, грузный бородач лет шестидесяти с небольшим, словно переброшенный сюда на машине времени прямиком из эпохи расцвета французского импрессионизма: заляпанная краской хламида, шейный платок, берет, косо сидящий на густых черных кудрях, которым позавидовал бы и тридцатилетний. Лайонел расхаживает среди учеников, громогласно раздавая советы и похвалы.
— Мастерски используешь пурпур, Сэнди!
Пышногрудая дама, расплывшись в улыбке, продолжает энергично покрывать холст мазками.
— Очень точный набросок, Джордж-младший! — Он хлопает старичка в бермудах по костлявому плечу. — А теперь давай поработаем как взрослые. — Лайонел ловко вырывает у Джорджа-младшего карандаш и вкладывает ему в руку кисть из конского волоса.
— Лайонел!
Мой крик застает папулю врасплох. Он круто разворачивается, и полы халата взлетают, как парашют. Я машу ему с деревянной изгороди, на которой сижу уже минут пять, гордо за ним наблюдая, и сердце у меня невольно сжимается. Я — папина дочка. Но, живя в Лондоне, не могу проводить с ним столько времени, сколько хотела бы, и мне его очень не хватает. С каждым годом все сильнее. А ведь папуля стареет… Растянув рот в улыбке, кричу еще громче:
— Лайонел, это я!
Он смотрит на меня сквозь очки-полумесяцы и улыбается, сообразив, что фигура в красной футболке и джинсовых шортах — его единственная ненаглядная дочурка.
— Хизер, дорогая! — ревет он и спешит ко мне. — Какой приятный сюрприз! — Папа привлекает меня к себе и заключает в объятия. — Почему не сообщила, что приедешь? Или ты говорила, а я забыл? — Он театрально закатывает глаза. — Память слабеет. Розмари опасается старческого маразма в самое ближайшее время, — доверительно сообщает он и хохочет.
Я демонстративно игнорирую упоминание о мачехе.
— Прости, все решилось в последнюю минуту. Брайан дал мне выходной, я как раз забрала машину из ремонта, ну и подумала: а не махнуть ли к тебе?
Это правда, но лишь наполовину. Разлепив глаза сегодня утром, я действительно сказала себе, что неплохо было бы на денек сбежать из Лондона. И конечно, я очень соскучилась по папе. Но почему не позвонила предварительно? Разумеется, неспроста. Не хотелось ставить в известность Розмари. Эта стерва непременно заявила бы, что они как раз должны уехать, что у нее опять разыгралась жуткая мигрень, или просто без обиняков предложила бы перенести визит на следующие выходные. А так ей не удалось ничего испортить. Впрочем, она уже напакостила как могла, женив на себе моего папулю.
— Чудесно, чудесно! — Лайонел, сияя, выпускает меня из медвежьих объятий и поворачивается к студентам, с интересом наблюдающим за нашей встречей: — Хочу представить вам мою красавицу-дочь Хизер.
— Приве-е-ет, — звучит хор голосов с техасским прононсом.
Смущенно улыбаюсь. Папа всегда мною хвастает, вроде я трофей, и таскает в бумажнике мою фотографию, с удовольствием демонстрируя каждому встречному-поперечному. Это само по себе неловко, даже если не учитывать, что на снимке мне тринадцать лет, у меня пегая челка и брекеты на зубах.
— Она фотограф, — гордо продолжает Лайонел.
Общий возглас восхищения:
— Ух ты!
Только не это. Собираюсь с духом, предвидя неизбежные вопросы про супермоделей и съемки для всемирно известных журналов. Всякий раз, когда приходится говорить о своей работе, я понимаю, что разочаровываю людей. Они ждут рассказов об экзотических странах и окружности бедер Кейт Мосс, а не о бракосочетании неведомо кого в брикстонской ратуше.
Меня спасает папин аппетит. Выудив часы из кармана необъятных клетчатых брюк, Лайонел со щелчком откидывает крышку и громогласно объявляет:
— Пожалуй, на сегодня все. Ровно половина первого. Пора и перекусить. Пойдем домой, ласточка.
Нынешняя обитель Лайонела находится в самом центре Бата — впечатляющее здание эпохи Регентства, будто сошедшее со страниц романа Джейн Остин. Сложенный из камня медового оттенка особняк стоит на холме, откуда открывается живописная панорама города и близлежащих деревень. Подъемные окна выходят на окруженный стеной садик с кустами роз, беседкой и огромным газоном, выстриженным идеально ровными полосами. С точки зрения кого угодно, это достойный зависти дом.
Но я его ненавижу. Он принадлежит Розмари и холоден, неприветлив, как и его хозяйка. До женитьбы на Розмари папа жил в Корнуолле, в нашем уютном домике с неровными стенами, соломенной крышей и окошками-иллюминаторами. Теперь мы ездим туда только во время отпуска или на семейные праздники — Розмари все стенала, что там не помещается ее мебель.
На самом-то деле она, конечно, имела в виду, что в доме слишком многое напоминает о нашей маме.
Лайонел купил его, когда маме только поставили страшный диагноз. Надеясь, что тепло и морской воздух пойдут ей на пользу, он продал наш дом в Йоркшире и перевез всю семью за сотни миль к югу, в Порт-Исаак[19]. Мы с Эдом были еще маленькими и страшно огорчились, что приходится срываться с насиженного места, расставаться с друзьями, футбольной командой «Лидс Юнайтед» и с могилкой Фреда, нашего хомячка, которого мы с почестями похоронили в саду. Но мама сразу полюбила эти места, и ее счастье постепенно передалось нам. Наше отношение к дому изменилось, но ее диагноз остался прежним. Она скончалась три года спустя.
— Надолго к нам?
Мы сидим за кухонным столом. Мы — это я, папа и мачеха, которая при встрече, как обычно, едва прикоснулась к моей щеке стиснутыми губами и немедленно принялась ныть, что на троих может не хватить еды, потому что она не была сегодня в супермаркете. «Я не ждала гостей». Она одарила меня натужной улыбкой, и в ее тоне явственно слышалось обвинение.
Поворачиваюсь к отцу — он отрезает себе увесистый ломоть сыра «бри»; ручищи держат сырный нож, как пилу.
— Всего на денек. К вечеру надо вернуться в Лондон.
— К вечеру? — Папуля огорченно хмурится.
— Ах, как жаль, — воркует Розмари.
Меня не проведешь: она готова пуститься в пляс.
— Ага, понял! — Лайонел вновь оживляется и лупит кулачищем по столу. — У тебя свидание с каким-нибудь парнишкой!
— Ну не совсем… — Отщипнув несколько виноградин от грозди на сырной доске, забрасываю их в рот одну за другой.
— Только не говори, что все еще переживаешь из-за того негодяя.
— Его зовут Дэниэл, — напоминаю я с олимпийским спокойствием. Только сейчас, год спустя, я могу наконец произносить это имя, не испытывая такого стеснения в груди, будто нырнула слишком глубоко и отчаянно пытаюсь всплыть на поверхность. — И он давно в прошлом.

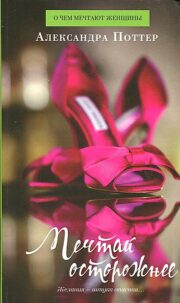
"Мечтай осторожнее" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мечтай осторожнее". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мечтай осторожнее" друзьям в соцсетях.