Я испытал некоторое облегчение при мысли, что Идоя не войдет сейчас в комнату. Но при этом понял и то, что будет неправильно, если мать Августина попытается отговорить меня уйти, не повидавшись с ней. Если она, взявшая на себя роль матери по отношению к моей дочери, не понимала, насколько важно, чтобы Идоя узнала о существовании родных матери и отца, о том, что они заботятся о ней, то я сам должен возложить на себя эту обязанность.
– Я все-таки хотел бы увидеться с дочерью.
– Разумеется. – Она бросила взгляд на большие часы, висевшие на стене напротив письменного стола. – Наши воспитанницы сейчас обедают. Прошу вас следовать за мной, майор Фэрхерст.
Меня не особенно интересовали обитатели приютного дома, если не считать Идои, и та часть моего мозга, которая не была занята размышлениями о ней, все еще пребывала в страхе и оцепенении из-за Люси. Но у меня не было желания показаться нелюбезным, и даже если такая экскурсия негативно скажется на моих чувствах, я, по крайней мере, получу некоторое представление об условиях, в которых воспитывается моя дочь. Мы проходили мимо детских комнат, спален и классных комнат для шитья. Все в них сверкало, нигде не было ни пылинки, а кровати, столы и стулья были расставлены строго по линейке, так что и самому строгому армейскому сержанту не к чему было бы придраться. Даже цветы и свечи, стоявшие перед бесчисленными образами святых, казалось, прошли самый строгий отбор, прежде чем были допущены к выполнению обетов своих дарителей. Здесь был установлен строгий распорядок и, как я понял из таблицы, прикрепленной к стене, каждая минута была расписана. В той части часовни, которая была доступна моему взору, царила простая и спартанская обстановка, но пламя свечей отражалось в позолоте, украшавшей придел.
– Ваша дочь, естественно, воспитывается как истинная дочь церкви, и в следующем году ей предстоит первое причастие. Насколько я понимаю, вы не исповедуете нашу веру, – обронила мать Августина, преклонив колена перед невидимым алтарем и осенив себя крестным знамением.
– Нет.
– Господь милосерден, и на него мы уповаем.
У меня слегка кружилась голова в насыщенном запахом благовоний и ладана воздухе, но я не чувствовал особой благодарности к этому католическому Господу, по крайней мере, такому, каким его описывала Каталина. «Хотя мне и следовало бы питать это чувство хотя бы ради нее», – подумал я. Я должен был быть благодарен ему за все, что утешало ее в горе, вообразить которое я был не в силах.
В таком душевном расстройстве я последовал за матерью Августиной в трапезную. Здесь за казавшимися бесконечными рядами столов и лавок в молчании и тишине вкушали пищу сто восемьдесят одетых в серое девочек, в то время как монахиня, стоявшая на кафедре, что-то читала им из небольшой ветхой книги. Перед каждой стояла миска с тушеным мясом и рисом, чашка разбавленного водой вина и ложка. По левую сторону лежал кусочек серого хлеба. Закончив есть, девочки опускали ложку в пустую миску и складывали руки на коленях, прикрытых фартуком, подобно солдатам, стоящим по команде «вольно». «Кто же из них, – подумал я, глядя на вереницу темноволосых головок с белыми накидками, – ребенок Каталины?»
Но тут читавшая проповедь монахиня закрыла книгу, перекрестилась, и все одновременно встали со своих мест, не важно, успели они доесть или нет. Прозвучала благодарственная молитва, после чего, по-прежнему молча, девочки покинули трапезную и вышли во дворик.
– Перед занятиями, которые начинаются после обеда, у них есть полчаса свободного времени на игры, – пояснила мать Августина. – Я распоряжусь, чтобы привели вашу дочь.
– Может быть, нам стоит выйти во двор и поискать ее там? – предложил я.
– Конечно, если таково ваше желание, – ответила она. – Вы увидите, что мы не поощряем бестолковой беготни, варварского поведения или тесной дружбы, но физические упражнения и свежий воздух полезны всем живым существам.
Мы вышли на игровую площадку. Она была огорожена высокими серыми стенами, и повсюду прыгали, бегали, играли в скакалочку и перешептывались девочки. Они выглядели в достаточной мере живыми и здоровыми, некоторые останавливались и провожали нас взглядом широко распахнутых глаз. Мать Августина сделала знак монахине, которая стояла, спрятав руки в рукава, и наблюдала за детьми.
– Матушка, не будете ли вы любезны показать нам, которая из воспитанниц Идоя Маура? Я хотела бы поговорить с ней. Монахиня неторопливо и безошибочно двинулась сквозь это вавилонское столпотворение к маленькой фигурке в сером, которая стояла в углу двора, глядя на своих подружек. Завидев приближающуюся наставницу, девочка быстро сунула что-то в кармашек платья и встала как солдатик, по стойке «смирно». Потом, когда монахиня повернулась к ней спиной, девочка последовала за ней.
Сердце подсказывало мне, что ребенку Каталины должно быть сейчас шесть лет, но до этого момента я не представлял, как она выглядит. У нее были черные материнские глаза, волнистые черные волосы, убранные под белую накидку, прямые брови, загибающиеся на концах вниз, и я с удивлением понял, что это мои брови, те самые, которые я вижу каждый день в зеркале по утрам. В конце концов, она была и моим ребенком. Ее мягкие полные красные губки были плотно сжаты, как будто не привыкли раздвигаться в улыбке, и своими маленькими ручками она крепко стискивала подол платья. Я непроизвольно протянул к ней руку, но она лишь крепче вцепилась в ткань своего одеяния.
– Поздоровайся с нашим гостем, Идоя, сделай ему реверанс, – сказала мать Августина, – а потом и мне. – И с некоторой заминкой Идоя поступила так, как ей велели. – А теперь ты можешь пойти с нами, потому что наш гость хочет побеседовать с тобой.
В молчании мы проделали обратный путь через трапезную, вверх по лестнице, а затем по коридору, пока не вошли в кабинет матери Августины. Она жестом показала, что я могу присесть, потом опустилась в кресло сама, а Идоя, сложив руки, осталась стоять между нами.
– А теперь, Идоя, я должна сообщить тебе, что это твой отец, который приехал сюда из Англии, чтобы повидаться с тобой и убедиться, что ты растешь хорошей девочкой.
– Из… из Англии? – переспросила Идоя. В ее испанском явственно слышался баскский акцент, но я понимал ее без труда.
– Да, из Англии, – ответил я. – Меня зовут Стивен Фэрхерст, я англичанин. – Я протянул ей руку. – Encantado de conocerle.[57]
Идоя бросила короткий взгляд на мать Августину, которая кивнула в ответ. Моя дочь робко и с некоторой неохотой вложила свою ладошку в мою руку.
– Encantada, Senor.[58]
– Что же, – сказала мать Августина. – Хотите узнать что-либо еще? Если нет, вероятно, вашей дочери лучше вернуться к своим обязанностям. Приютный дом всегда с радостью готов принять любую помощь, которая требуется для нашей богоугодной деятельности, особенно в нынешних стесненных обстоятельствах. Что касается будущего вашей дочери, то я могу порекомендовать вам нотариуса, обладающего большим опытом в решении подобных вопросов.
Она снова встала, и на фоне ее черной сутаны Идоя показалась мне совсем маленькой.
Я постарался собраться с мыслями и взять себя в руки.
– Вы не могли бы указать место, где я мог бы остаться наедине со своей дочерью? Мне хотелось бы получше узнать ее, но при этом я не хочу причинять вам лишних неудобств. Я уверен, что вы очень заняты.
– Дела подобного заведения, естественно, требуют моего неусыпного внимания, – с важностью ответствовала мать Августина. – Если вы хотите провести некоторое время в обществе Идои, полагаю, молельня Святой Катерины из Сиены в настоящий момент не занята.
Вот так и получилось, что дочь Каталины, моя дочь, и я оказались сидящими по разные стороны маленького стола в пустой комнате. Окно располагалось чересчур высоко, чтобы через него можно было что-либо увидеть, сверху со стены на нас взирал распятый на кресте Христос, а в углу, как объяснила мне Идоя, стояла статуя Святой Катерины, демонстрирующая свои благочестивые стигматы. Я поинтересовался, знакома ли ей эта статуя, поскольку не мог придумать ничего лучшего, чтобы завязать разговор.
– Счастлива ли ты? – продолжал я свои расспросы. – Хорошо ли относятся к тебе монахини? – Она кивнула, по-прежнему держа руки на коленях. – Боюсь, ты испытала настоящий шок, когда тебя так неожиданно познакомили с отцом.
Она смущенно хихикнула – я решил, что это от растерянности, – и прижала руки ко рту, как если бы не знала, что ответить. Я предпринял новую попытку.
– Ты знаешь… Монахини рассказывали тебе что-нибудь о матери?
– Только то, что она тоже посвятила себя служению церкви, сеньор.
Из кармана сюртука я извлек рисунок Люси, на котором была изображена Каталина и который мы прикрепили к картону, чтобы он не измялся.
– Это твоя мать. Рисунок был сделан только вчера. Ее зовут Каталина Маура, но церковное ее имя – сестра Андони.
– Когда я теряю свой грифель, то молюсь Святому Антонию.
Она взяла рисунок и долго смотрела на него, не шелохнувшись. Я заметил, что она унаследовала от матери небольшой прямой нос, высокие скулы и круглые щеки. Они очень походили друг на друга – мать и дочь, одна совсем маленькая, другая постарше. Мне казалось, что Идоя держит в руках волшебное зеркало, в котором время разделилось, так что прошлое оказалось наложенным на будущее, а будущее наложилось на прошлое, и теперь они смешались, и я уже не мог разобрать, где и что изображено.
Спустя долгое время она подняла глаза и протянула мне рисунок.
– Ты можешь оставить его себе, если хочешь, – предложил я. – Он был сделан специально для тебя.
– Пожалуйста, возьмите его, – сказала она. Для своих лет у нее был низкий голос. – Мне не позволят оставить его, потому что моя мать была проституткой, а я незаконнорожденная.
Я почувствовал, как во мне разгорается гнев. Каталина ни в коей мере не заслуживала столь оскорбительного прозвища, а этот маленький ребенок не мог нести на себе подобное проклятие с самого детства. Кто мог сказать ей такие слова: другие девочки, проявившие невинную детскую жестокость, или же те, чьей обязанностью было любить ее и заботиться о ней? Может быть, именно поэтому она держала губы плотно сжатыми, а руки – сложенными на коленях? Дикая ярость охватила меня, но Идоя казалась такой маленькой и неподвижной в этой комнате, предназначенной для бесед со взрослыми, что я ни за что на свете не мог позволить ей ощутить глубину моего гнева.

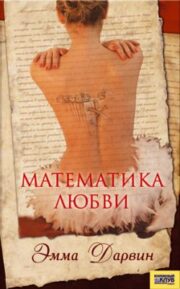
"Математика любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Математика любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Математика любви" друзьям в соцсетях.