– Так ты знала обо всем… – сказал я.
Она кивнула. Рука, которой я обнимал ее за плечи, свидетельствовала, что она сохранила тепло и приятную для глаз округлость форм. А под благовониями скрывалось пусть не слишком чистое, зато спокойное и уютное тело и добрая душа. Я вспомнил вечер, когда она обиняком сообщила мне, что ребенок Каталины мог умереть. При мысли о том, как должна была страдать Каталина, получив подобное известие, я с трудом поднялся из-за стола, не будучи более в состоянии поддерживать разговор, и нетвердой походкой удалился в свою комнату. Потом, много позже, Мерседес поднялась ко мне, чем поразила меня до глубины души. Она не стала разыгрывать роковую женщину, в чем, кстати говоря, была большой искусницей, а просто обняла меня и лежала рядом, пока я не погрузился в беспокойный и тяжелый сон. Ушла она только утром.
Мерседес сделала маленький глоток.
– Итак, что же заставило вас вернуться – ребенок или сестра Андони?
– Главным образом ребенок. Я должен удостовериться, что с ней все в порядке. Но я не мог, приехав сюда, не повидаться с Каталиной, сестрой Андони. Я хотел бы убедиться, что и у нее все хорошо.
Спустя мгновение она спросила:
– Вы ведь… не собираетесь искать встречи с ней или что-нибудь в этом роде, не так ли? У них жесткие правила, если помните. Тем более что она принесла все обеты.
– Нет… я не стану ничего требовать от нее. Я знаю, что она дала невозвратные обеты. У меня… Со мной приехала кузина, двоюродная сестра, она и увидится с ней от моего имени. А потом, если только Каталина не воспротивится этому, мы поедем в Бильбао. Я хочу лишь… – Я взглянул на Мерседес, и она в ответ вопросительно приподняла бровь. – В самом деле, мне более ничего не нужно. Ничего не изменится, только у меня станет спокойнее на душе, да и Каталина будет знать, что я забочусь о ее дочери.
Она не ответила, только провела кончиками пальцев по моему бедру. Мне пришло в голову, что из всех женщин, которых я знал, она была единственной, у кого я не боялся вызвать отвращение.
– Я и не подозревала, что у вас есть кузина. Может быть, проведете со мной час или два? В память о старых временах? Готова держать пари, что теперь вы с одной ногой умеете доставить женщине больше удовольствия, чем раньше с двумя. Я же вижу, что у вас была обширная практика.
– Я очень устал, – ответил я, взяв ее за руку прежде, чем она успела сделать еще что-то, и поцеловал. Но улыбка, которую я ей подарил, была натянутой, поскольку мысли мои были заняты тем, что раньше даже не приходило мне в голову. Я с изумлением понял, что могу искать у Каталины не только спокойствия ума и души. – Мы попали в шторм, а день сегодня выдался очень длинным и тяжелым.
Внезапно в памяти моей всплыло воспоминание о том, как я держал Люси в своих объятиях, как она прятала лицо у меня на груди, как ее сердце билось в унисон с моим. Я вспомнил запах соли и краски, которыми пропитались ее волосы, как ее мелкие белые зубки яростно впились в ладонь, когда она сдерживалась, чтобы не закричать.
Мерседес, естественно, сразу же догадалась, что я пытался скрыть от нее, но, и это вполне объяснимо, сделала неверные выводы.
– Только не говорите мне, что откажетесь подняться наверх, – заявила она. – В память о добрых старых временах?
Возвращаясь в гостиницу по темным улицам, я понял, что более не могу обманывать себя относительно тех чувств, которые столь недвусмысленно выразило мое тело. Однако подобные эмоции не имели выхода, удовлетворить их у меня не было ни малейшей возможности. Добиваться чего-либо подобного от Люси было… невозможно, и именно эта мрачная перспектива едва не толкнула меня искать утешения в объятиях Мерседес. Я чуть не поддался искушению. Невероятно, но тем, что этого не случилось, я обязан прежде всего мэру, который, спускаясь нетвердыми шагами по лестнице и уныло жалуясь на фригидность и экстравагантность своей супруги, внезапно пробудил во мне сильнейшее отвращение к подобному времяпрепровождению. Каким бы мимолетным ни было это отвращение, оно все же охладило мой пыл настолько, что усталость взяла свое. А когда желание утихло, в памяти у меня прозвучали слова Люси. Они пришли издалека, из давних времен, но голос ее звучал чисто и звонко.
Я могу доверять и вам… в том, что вы скажете мне правду.
Мне пришло в голову, что это имя очень ей идет, потому как она бросала яркий свет на все, о чем говорила, и, вероятно, именно с ее помощью я впервые ясно увидел путь, который мне предстояло пройти.
Размышляя об этом, я почти не обращал внимания на то, куда иду, поскольку знал город достаточно хорошо, чтобы ноги сами несли меня. Но вдруг, подняв голову, я обнаружил, что, очевидно, память все-таки сыграла со мной злую шутку, поскольку от дома Мерседес я добрел до монастыря Сан-Тельмо, давшего приют монахиням.
Когда я впервые оказался в Сан-Себастьяне, то после первого дня очень редко приходил на площадь, чтобы бросить взгляд на суровые каменные стены и всегда запертую, обшитую железными полосами дверь и вновь задуматься о том, правильным ли было мое решение. Сейчас, в темноте, монастырские стены показались мне ничуть не ниже стен, цитаделей, которые мне довелось штурмовать, и бесконечно длинными. Они тянулись и тянулись вдоль одной стороны узенькой, извилистой улочки, упираясь в огромный скальный массив, на вершине которого расположился форт. Но каким-то непостижимым образом те же самые стены выглядели странно хрупкими, даже иллюзорными, в колеблющемся свете уличных фонарей, освещавших только углы, как если бы малейшее дыхание ветерка было способно развеять их в пыль и явить постороннему взгляду жизнь внутри их пределов.
Спит ли сейчас Каталина? Или же молится в одиночестве в своей келье, или стоит на коленях в тускло освещенной часовне, воздух которой насыщен благовониями? Я мог только гадать об этом. Что я знал о ней? Я даже не мог представить, о чем она сейчас думает. Вспоминает ли хотя бы иногда обо мне? Она наверняка думает о своем ребенке. Выносить ребенка девять месяцев, в муках произвести его на свет, а потом отдать в чужие руки… Я понимал лишь, что не знаю и не могу знать того, что она чувствует. Это было выше моих сил, мне не хватало для этого воображения. Но все равно Каталина оставалась моей любимой: были времена, когда я точно знал, что означает каждое движение ее губ или улыбка в ее глазах. Я так долго и молча жаждал ее, страдал и мучился столько лет, и вот теперь вернулся… Зачем и для чего?
Я повернулся и с трудом пошел прочь. Когда наконец, хромая от боли в ноге, я доковылял по боковой улице до гостиницы, то, повинуясь внезапному порыву, поднял голову. Окно Люси было темным, ставни и жалюзи распахнуты, и мне показалось, что сквозь стеклянное ограждение балкона я вижу ее, сидящую у окна и глядящую вниз на улицу.
Сегодня просто замечательная погода, и лихорадка ушла. Хирург чрезвычайно доволен моими успехами; новый разрез заживает дольше, зато потом мне будет с ним намного удобнее. Он говорит, что нет ничего, что неспособна была бы излечить прогулка и дружеская пирушка.
Я должен сделать это. Я не могу до бесконечности прятаться от всех.
Повиснув на костылях, я с великим трудом тащу на себе собственный мертвый груз. Моя здоровая нога быстро устает, а ампутированная ступня подпрыгивает и спотыкается, ощущая каждый шаг, каждый камень, и дикая боль в ноге оплакивает мою потерю.
Мимо пробегают двое мальчишек. Они смеются, в руках у них ворованные яблоки. Один из них задевает меня, я спотыкаюсь и падаю на раненое колено. Мне кажется, что моя едва зажившая плоть вспыхивает жутким пламенем боли. У меня перехватывает дыхание, я не могу протянуть руку и поднять второй костыль, и вдруг один из мальчишек смеется и пинком отшвыривает его еще дальше от меня.
На помощь мне приходит какая-то женщина. Она достаточно сильна, чтобы поднять меня на ноги.
– Вам нужно выпить, точно говорю, ведь я держу кафе. После прогулки загляните ко мне на рюмочку коньяку. Я люблю солдат и знаю, как угодить им, потому что мой мальчик был убит под Бородино.
Я иду дальше, потому что не могу вернуться, хотя мои руки, обессилевшие вследствие долгого бездействия, растерты почти до бесчувствия рукоятками костылей, а под мышками у меня вздулись волдырями мозоли. Дует холодный ветер, но я взмок от пота. Мне потребовалось целых десять минут, чтобы дойти до конца улицы, и дальше идти мне некуда.
Когда я не сплю, то могу думать о Каталине. Иногда она даже является мне во снах, прогоняя кошмары, которых я так страшусь. Но когда я выхожу на улицу, то не могу взять ее с собой, потому что должен следить за каждым своим шагом. У меня нет сил сопротивляться, а улица полна опасностей: бегущие мальчишки и пьяные мужчины, собаки, которые бросаются на людей, и ручные тележки, которые проталкиваются сквозь толпу. Здесь неровные камни под ногами и скользкая грязь, здесь на каждом шагу попадаются благородные дамы, которые вздыхают над моей солдатской формой и моим изуродованным телом. Сопровождающие дам мужчины просто очарованы жалостью, которая светится в их голубых глазах, и тем нестрашным ужасом, от которого кривятся их пухленькие алые губки.
Для них я всего лишь достойный жалости субъект. Для них я всего лишь калека.
II
Вопрос о том, как мне увидеться с Каталиной и поговорить с ней, дабы не причинить ей боли и не поставить ее в неловкое положение, занимал меня с той самой поры, как я только покинул Керси. Но только увидев прошлой ночью Люси, сидящую у окна, я вдруг осознал, какую тяжкую и неудобную ношу я – пусть даже по ее настоянию – намереваюсь взвалить на ее плечи.
Утром мы встретились в кафе, и если даже она и спала не больше меня, то не призналась в этом. Но она явно оживилась, и у нее заблестели глаза при виде чашек с густым сладким шоколадом и корзиночкой с булочками и печеньем, которые обычно составляют испанский завтрак. Однако я не мог не обратить внимания на то, что ела она так же, как всегда, то есть почти ничего. Подобное поведение было мне знакомо, и я не приветствовал его. В течение некоторого времени за столом царило молчание, никто не нарушал тишины, и, когда она заговорила, я, хотя при этом и смотрел на нее, вздрогнул.

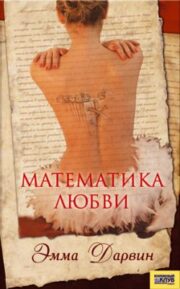
"Математика любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Математика любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Математика любви" друзьям в соцсетях.