– Эва работает здесь чаще меня. Обычно здесь не так чисто. – Он улыбнулся и выдвинул ящик одного из шкафов. – Вообще-то, это я аккуратист. – Он вытащил толстую папку, на которой было написано «ТБ – 1948, май, Берлин». – Видишь? Такой у нас порядок. В каждой папке лежит контактная страница, негативы и все отпечатки с пленки. – Он вытащил один лист и показал его мне.
Контактная страница оказалась большим листом глянцевой фотобумаги, на которой разместились уменьшенные копии всех фотографий, подобно окошкам современного здания, и на них видны были самолеты, похожие на больших металлических жуков, мужчины в комбинезонах, волочившие большие мешки, солдаты и женщины в платках. Потом Тео выдвинул другой ящик, в самом низу шкафа. На нем виднелась табличка «ТБ и ЭП – Испания, 1936». Он вытащил оттуда папку с пожелтевшей от времени обложкой с загнутыми краями.
– Вот то, что мне нужно. Идем в фотолабораторию?
Не знаю, чего я, собственно, ожидала, но фотолаборатория оказалась совсем другой. Например, хотя в ней не было ни одного окна, она не выглядела темной. Наоборот, она оказалась белой, а под потолком протянулись гирлянды ламп. В ней было очень тепло. В углах стояли большие раковины и поддоны, все в пятнах, а с одной стороны выстроились в ряд полки с химикатами в бутылочках и мерной посудой. На противоположной стене – на сухой стороне, как выразился Тео, – имелась лишь одна широкая полка, под которой стояли три черных агрегата в нишах, выкрашенных изнутри черной краской. У меня сложилось впечатление, что внизу все было выдержано в двух цветах – или черном, или белом.
– Что это такое? – поинтересовалась я, показывая на аппараты.
– Увеличители. Они проецируют… – Он оборвал себя на полуслове. – Сейчас увидишь.
Он бросил взгляд на контактную страницу, поднес полотно с негативами к свету и стал разглядывать его, прищурив глаза. Затем осторожно выудил одну полоску.
– Ты не могла бы сделать дневной, то есть белый свет поярче? Пожалуйста.
«Безопасное освещение» – так Тео назвал красный свет. И хотя впоследствии выяснилось, что он имел в виду бумагу, я все-таки подумала, что он безопасен и для нас, людей, тоже. Мы очутились в полной изоляции, словно бы обернутые ватой, за плотно закрытой дверью, и в шуме вентилятора различалось лишь негромкое журчание воды, а мы сидели и дышали в тепле и безопасности, под красным светом ламп.
Тео заправил негатив в увеличитель и включил аппарат. Внезапно на белой рамке ожили серебристые призраки, замершие под лучами черного солнца. Оно выкрасило их лица в чернильный цвет, отбрасывая озерца лунного света на булыжную мостовую. Поверх мешков с песков, держа в руках белую винтовку, на меня смотрела женщина, а неподалеку от нее, в тени высоких домов, обратив лицо к небу, которого я не могла видеть, притаился худощавый молодой человек.
– Итак, – произнес Тео, помещая что-то похожее на крошечный микроскоп в центр картинки. – Сейчас мы проверяем резкость. Она должна быть четкой, то есть мы с тобой должны разглядеть зернистость.
Он склонился над рамкой и другой рукой принялся вращать колесико в верхней части увеличителя. В красноватом свете безопасного освещения мне были видны все позвонки у него на спине, видны настолько четко, что я могла сосчитать их все до единого. Я смотрела сбоку на его профиль, там, где изгиб нижней челюсти смыкался с ухом. Мышцы на его спине напряглись, он пошевелился, выпрямился, улыбнулся мне и выключил увеличитель.
– Ну что, теперь отпечатаем снимок? Пожалуйста, принеси мне коробку бумаги с полки. Глянцевой, десять на восемь, волокнистой, второго сорта.
В конце концов я отыскала требуемое, и он положил лист бумаги под металлическую рамку. Увеличитель щелкнул, включаясь и выключаясь, пять раз, и с каждым щелчком он подкладывал очередной лист бумаги.
– Готово.
– Но на ней ничего нет, – возразила я. – Это всего лишь белая бумага.
– Смотри, что произойдет с ней в проявителе.
Он опустил лист в жидкость в одном из поддонов, приподнял его одним пальцем и принялся легонько покачивать, как колыбель, отчего волны жидкости плавно перекатывались по бумаге.
– Смотри, начинает появляться.
Я смотрела. Сначала на белом фоне проступили черты женского лица, теперь очень бледного, потом стало видно темное, покрытое пылью кепи, и мешки с песком, похожие на огромные валуны под солнцем. Один край снимка оставался бледным и залитым солнечными лучами, и каждая новая полоска времени была темнее предыдущей, приближаясь к другому краю, где лицо мужчины выделялось облаком на фоне ночного неба.
– Ну вот, проявитель сделал свое дело, – сказал Тео и приподнял бумагу пинцетом, позволив последним нескольким каплям жидкости соскользнуть с нее по влажной поверхности назад в поддон. – Теперь фиксажная ванна на несколько секунд, потом закрепитель и промывка.
Он попросил меня включить лампы дневного света, и мы прищурились.
– Ну, что скажешь? – обратился он ко мне, и я наклонилась над глубоким поддоном с промывочной водой. Должно быть, у меня на лице отразилась растерянность, потому что он продолжил: – Мы должны различать мельчайшие детали происходящего и при ярком свете, и в глубокой темноте. В противном случае снимок… в общем, он получается неполным, наверное, так будет вернее сказать. Ну, какая полоска времени была правильной, по-твоему?
Я взглянула на него. Он смотрел на меня, а не на полоску. Это был не просто риторический вопрос, призванный смутить меня, его действительно интересовало мое мнение. Тонкие его губы, с морщинками в уголках, уже готовы были изогнуться в улыбке.
Я перевела взгляд на полоску.
– Средняя?
– Да, я думаю, ты права.
Один щелчок света, потом пятнадцать секунд, которые показались мне вечностью и в течение которых я не осмеливалась дышать, и вот я опускаю бумагу в проявитель. Я пыталась увидеть женщину, и мне казалось, что ее создает и показывает нам сам проявитель. Сначала она была бледная, как призрак, но при этом отнюдь не расплывчатая, потому что как только ее образ появился, то уже и тогда был четким и выразительным – она всматривалась вперед, поджидая врага сорок лет назад.
Фиксаж. Закрепитель. Промывка. Фотография плавает и колышется в безостановочно и бесконечно меняющейся воде.
– Смотри, – обратился ко мне Тео, когда я подошла после того, как включила лампы дневного света. – На светлом месте изображения видна каждая деталь, за исключением лица девушки. А вот что ты скажешь о тенях?
– Вы имеете в виду этот черный квадрат? Он выглядит так… ну, он выглядит так, словно в нем чего-то не хватает.
– Это окно. Да. Отличная работа. – Еще мгновение он рассматривал его прищуренными глазами, как будто вглядывался вдаль. Потом заметил: – Выключи свет, пожалуйста, и я покажу тебе, что мы делаем со свежими отпечатками.
Щелк. Вниз на рамку хлынул поток света из увеличителя, и спустя несколько секунд он взял в руки кусочек картона, загораживая свет, идущий из окошка. Руки его двигались осторожно, скупо и точно. Он слегка нахмурился, с головой уйдя в работу, и я уловила слабый запах его пота. Увеличитель снова щелкнул. Потом он добавил на таймере еще пять секунд, сложил ладони ковшиком, чтобы только узкий лучик света проходил у него между пальцами, рассеиваясь по лицу девушки на бумаге.
– Как ее звали? – спросила я. Снимок лежал в закрепителе, а мы стояли над ним и смотрели, как жидкость накатывалась на него, словно морской прибой на берег.
– Откуда мне знать? По большей части мы этого не знаем и даже не спрашиваем. Ты просто стоишь и ждешь, а потом нажимаешь на пуск. Помню, я спросил у них, что слышно. А потом, когда все стихло, я отдал им все сигареты, что у меня еще оставались, и ушел. Мы почти никогда не заглядываем в будущее, стремясь узнать, что было дальше. Мы просто ловим момент. Кто она такая, не имело значения, главное, кем она была. Мы всегда шли дальше. У нас не было другого выхода. Вскоре это стало привычкой.
– Да, – сказала я. – Понимаю. – Я чувствовала, что он смотрит на меня. – Может быть, она уже умерла?
– Разумеется. Это же было самое начало гражданской войны. A las milicianas[29] не любила ни та, ни другая сторона. Но всякое могло быть. – Он вытащил снимок из закрепителя, подержал его мгновение на воздухе и сунул в промывку. – Война с обычными людьми не церемонится. Мы должны были рассказать о ней. По крайней мере, я мог сделать хотя бы это.
Я взглянула на него. У него был такой голос, словно он разговаривал отнюдь не со мной. И он больше ничего не добавил, просто стоял и смотрел на девушку, которая то исчезала, то вновь появлялась в струях воды. Мне показалось, что ему просто необходимо было сделать этот снимок – сфотографировать и отпечатать его, спустя много лет и много миль, и после этого, после всего того, что довелось повидать, ему больше нечего было сказать.
Когда время истекло, я, не дожидаясь напоминания, включила дневной свет и вернулась туда, где он стоял и смотрел в кювету. Там, где раньше был черный квадрат, теперь проступило окно, открывающееся внутрь, и сквозь нежную и шелковистую пленку воды я разглядела кувшин с вином и лицо старой женщины.
Я вернулась в Холл с двумя фунтовыми банкнотами в кармане и увидела на кухне Сесила. Он лежал на животе под столом и пытался сложить поленницу из веточек, укладывая их друг на друга.
– Привет, – воскликнул он сразу же, как только увидел меня, и вылез из-под стола.
– Во что ты играл?
– Я сжигал ведьму на костре.
– Уф! Послушай, у меня для тебя есть подарок.
– Какой?
– Пойдем посмотрим, – сказала я. – Он в моей комнате.
Я направилась к выходу из кухни, но не раньше, чем расслышала шлепанье его босых ног у себя за спиной. Из конторы донесся звук глухого удара, потом хриплый и громкий голос Белль. Рей что-то отвечал ей почти шепотом. Внезапно Сесил оказался так близко, что я ощутила его теплое дыхание, но он ничего не сказал.

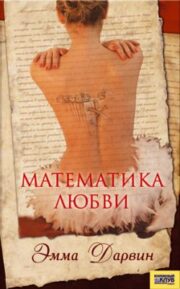
"Математика любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Математика любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Математика любви" друзьям в соцсетях.