Жалобно вскрикнув, она упала рядом с ним на колени. Мальчик застыл в неестественной и неудобной позе, подогнув под себя одну руку. Его курточка была перепачкана грязью и пылью, но никаких видимых повреждений я не заметил, если не считать царапины на щеке, ярко выделявшейся на бледной коже.
– Он дышит, – всхлипнула она, пытаясь приподнять его и прижать к себе. – Ах, что же я скажу Хетти? – Я попробовал было помешать ей, заметив, что мальчика лучше не трогать, но она оттолкнула мою руку. – Вот еще, какие глупости! Он не очень тяжелый. Я достаточно сильная.
– Возможно, так оно и есть, – ответил я. – Но, думаю, Тома сбили с ног и затоптали. Вот почему не стоит тормошить и беспокоить его. – Я оторвал от повозки доску и положил ее на землю. – Его необходимо занести в дом, а потом я схожу за доктором.
И вот увечный мужчина и слабая женщина на руках понесли пострадавшего мальчика. Жаркий, пропитанный пылью ветер швырял в нас утерянными носовыми платками и скомканными листками воззваний.
К тому времени, когда я вернулся с известием, что единственный доктор, которого я смог найти, пообещал навестить нас не ранее наступления темноты, прибыл один из грумов Дурвардов. Собственно говоря, в дом меня впустил именно он.
– Вы, должно быть, майор Фэрхерст, осмелюсь спросить? Миссис Гриншоу приказала мне отправиться сюда с сообщением, что мастер Том сбежал. На тот случай, если он окажется здесь… – сообщил он. – Она также сказала, что я должен найти вас, поскольку вы можете быть тут. Но какой-то негодяй-агитатор отнял у меня лошадь, чтобы удрать на ней. Мисс Дурвард сейчас пишет письмо.
Я кивнул ему, испытывая облегчение уже оттого, что ему не пришлось сообщать мне, что случилось самое худшее, и, поднявшись на второй этаж так быстро, как только мог, постучал в дверь спальни.
Том по-прежнему лежал без чувств, укрытый одним лишь тонким покрывалом. Комната располагалась под самой крышей, и жаркое августовское солнце раскалило ее до умопомрачения. У него были темные волосы матери, сейчас испачканные пылью, и бледное, осунувшееся лицо. У няни, миссис Хилис, глаза покраснели от слез, но морщинистые руки двигались быстро и умело. Мисс Дурвард сидела у окна и что-то поспешно писала на листе бумаги, вырванном, очевидно, из альбома для рисования, лежавшего перед ней. Я рассказал им о докторе.
– Его здесь еще не знают, у него практика в Шрусбери, так что он не слишком занят. Но он производит впечатление опытного и грамотного человека. Во всяком случае именно так отозвались о нем два джентльмена, с которыми я имел честь беседовать.
– Благодарю вас, – ответила мисс Дурвард. – Няня делает все, что в ее силах, хотя, ничего не зная о природе его ран, мы мало чем можем помочь Тому. Мы решили не приводить его в чувство с помощью солей или жженых перьев, чтобы он не начал чихать или кашлять.
– Вы уже закончили письмо? – полюбопытствовал я. – Похоже, на улицах достаточно спокойно. Если посыльный не станет медлить, то с ним ничего не случится.
– Да, – ответила она, капая воск на бумагу и запечатывая его с аккуратностью, достойной опытного чиновника.
– Или я могу доставить его сам, если вы полагаете, что подобный поступок с моей стороны способен вселить некоторую уверенность в миссис Гриншоу и ваших родителей.
– Нет, – заявила няня, выпрямляясь и вытирая руки о фартук. – Пусть отправляется этот малый, Джеймс. Сэр, не будете ли вы любезны сопроводить мисс Дурвард вниз и напоить ее чаем? – Мисс Дурвард встала из-за стола, сделала несколько шагов и беспомощно остановилась у изножья кровати. – Ступайте, ступайте, моя дорогая мисс Люси. Вы только что написали мисс Хетти – миссис Джек, правильнее будет сказать, – то есть сделали то, чего не могла бы сделать я, в отличие от вас. Малышу не станет лучше, даже если вы будете рядом. Я позову вас, когда в том возникнет нужда.
Я последовал за мисс Дурвард вниз в небольшую гостиную, уютную и опрятную. Едва войдя в комнату, она опустилась на первый попавшийся стул и заплакала, так что не кому-нибудь, а именно мне пришлось отправляться на поиски прислуги или горничной, выполняющей работу по дому. От имени мисс Дурвард я распорядился приготовить чай. Когда я вернулся, она выглядела уже спокойнее, как будто обыкновенно слезы были неспособны смутить ее душевное расположение или же расстроить надолго.
Когда же перед нами появилась служанка, держа в руках чайный поднос, мисс Дурвард выпрямилась на стуле и утерла слезы, не сделав, однако, ни малейшей попытки пригладить растрепавшиеся и запылившиеся волосы. На мой взгляд, она по-прежнему пребывала в расстроенных чувствах, так что пришлось налить ей чашку чая и отнести туда, где она сидела, к двери.
– Благодарю вас, – негромко произнесла она. – Прошу простить меня. Тома очень любит Хетти, и мои родители тоже без ума от него. С тех пор как умер Джек и с ней случилось… недомогание, у нее остался только Том. И если… – Она беспомощно подняла на меня глаза. – Это глупо, разумеется, но я никак не могу забыть, что на следующей неделе у него день рождения. Хетти приготовила для него подарки и развлечения. И если он… Ах, если бы только она была здесь!
– Миссис Гриншоу не сможет прибыть сюда, это вполне естественно. А как насчет миссис Дурвард?
– Моя мать непременно отправится сюда, как только сможет. Как вы полагаете, она не подвергнется при этом опасности?
– Право же, затрудняюсь ответить.
Я встал и подошел к окну. На площади уже не осталось тел погибших, хотя она по-прежнему была усеяна сорванными афишами и плакатами, кирпичами, железными прутьями, тросточками и испачканными кровью носовыми платками. До меня донеслись слабые звуки мушкетной стрельбы и беспорядков, несомненно продолжающихся где-то вдалеке. На дальней стороне площади группа бюргеров и джентльменов в темных плащах поспешно направлялась к воротам Динз Гейт в окружении, мне показалось, специальных констеблей, превосходивших их числом по меньшей мере втрое.
– На улицах может быть вполне безопасно, хотя я бы посоветовал леди не выходить из дома. Но… – Я покачал головой и одним глотком допил чай, сожалея, что это не бренди или хотя бы холодная вода. Мисс Дурвард по-прежнему не сводила с меня глаз. – За десять лет службы в армии мне не доводилось видеть ничего подобного. Солдаты, такие же, как и те, которые находились под моим командованием, преследуют мирных горожан, гражданских лиц, своих соотечественников…
– Но вы же сами сказали, что это милиция, ополченцы, а не регулярные войска.
– Да, в большинстве своем. Ими трудно командовать, они плохо обучены. Тем не менее…
Она не ответила мне прямо, вместо этого заметила:
– Люди просто не могли убежать. Даже если хотели и пытались. Я сидела наверху у окна, чтобы лучше видеть. С площади Святого Петра всего несколько выходов. Женщины… Подростки… Дети… Ах! Во мне закипает гнев, когда я вижу подобные вещи… Но, очевидно, для вас, вообще для человека вашей профессии, это зрелище должно быть не в новинку.
– Да, если вы имеете в виду пролитую кровь. Но во время военной кампании если гражданские лица не принимали в ней участия на стороне противника, то, по крайней мере, могли рассчитывать на защиту. Мы…
Мысли мои путались, и в это мгновение раздался благословенный стук, донесшийся от входной двери. Мы услышали, как по коридору, шурша платьем, поспешно прошла маленькая горничная, чтобы посмотреть, кто пришел. Мужской голос поинтересовался, тот ли это дом, в который майор Фэрхерст вызывал доктора. Горничная ответила утвердительно. Я поспешил покинуть гостиную. Доктору в этот момент помогали выйти из экипажа, в котором он прибыл, и, когда тот наклонился под тяжестью его внушительного веса, я заметил, как несколько книг выпали через раскрытую дверцу коляски.
Мисс Дурвард приветствовала доктора, когда лакей помог ему подняться по ступенькам, и повела его наверх настолько быстро, насколько позволяли ее хорошие манеры и его внушительный вид. Мне оставалось лишь в одиночестве созерцать остывающий чайник и обветшалую, но безупречно начищенную мебель, вышитые гарусом изречения и красочные гобелены на стенах. Там же можно было лицезреть и безвкусный эстамп, запечатлевший Их Величества в окружении августейшего потомства, сделанный, вне всякого сомнения, много лет назад, когда в детях еще можно было разглядеть черты невинности и благонравия, а у их отца – проблески здравого рассудка. Среди картин, которыми миссис Хилис предпочла украсить свою гостиную, было и несколько скетчей, сразу же привлекших мое внимание. Глядя на искусно нарисованную очаровательную головку миссис Гриншоу, я заметил внизу подпись: «Миссис Джек, с благодарностью своей дорогой няне» и инициалы «Л. Д.». Мисс Дурвард нарисовала свою сестру. Казалось, в приглушенном свете карандашные штрихи живут своей яркой жизнью, независимой от грубой бумаги кремового цвета, на которую они были нанесены, так что розовые щечки на портрете той же самой особы, выполненном маслом и висящем рядом, выглядели всего лишь красочными мазками, не более. Не зная, чем занять свой ум, я принялся размышлять над тем, не была ли мисс Дурвард более искусна в обращении с карандашом, нежели с красками, но тщетно. Или все дело было в намеренной простоте скетча, лишенного изобразительной яркости, которая побуждает стороннего зрителя ощутить искреннюю симпатию к изображенному на портрете лицу, тем самым наполняя рисунок жизнью? В карандашных линиях, разбросанных по бумаге – легкая тень здесь, подчеркнутая линия ресниц там – почти незаметна была рука, рисовавшая их. Лицо миссис Гриншоу, как и было обещано, выглядело очень молодым и привлекательным. Мне также посулили, что ее здоровье скоро поправится, скорбь по умершему супругу уступит место другим, более благосклонным чувствам, которые, вкупе с оживлением, которое должна была привнести в ее жизнь наша помолвка, неизбежно ускорят выздоровление. Если все действительно обстояло именно так, то ее единственный ребенок, раненый мальчуган, лежавший наверху, станет моим сыном.

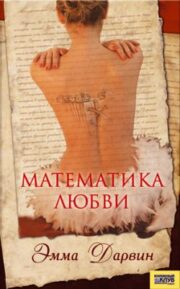
"Математика любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Математика любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Математика любви" друзьям в соцсетях.