– Но вам следовало сперва посоветоваться с нами, – возразил еще один человек – банкир. – Мы все гордимся вашими достижениями, Раф. Вы совершили геройский поступок во имя славы нашей общины.
– Разве нельзя было принять эти почести и поблагодарить от имени еврейской общины тех, кто их вам вручал? – спросил кто-то из присутствовавших.
– Нет. Я не мог этого сделать. Не хотел получать от них благодарности, не хотел принимать приказ о присвоении мне офицерского звания, особенно из рук Алессандро Лоредана. Вы забыли, как он поступил с нами? Если бы не Лоредан, мой дед и сегодня был бы жив. Лоредан ненавидит евреев. Если бы он смог, то уничтожил бы всех нас.
– Вы выступили против правительства. – Главный раввин покачал головой. – Разве вы не понимаете, чем это может теперь кончиться для нас? Вы всех нас поставили в весьма неудобное и опасное положение.
– Потому, что сказал правду, – упрямствовал Раф. – Все, кто был там, понимали, что я говорил правду.
– Возможно, – сказал банкир. – Но после вашей речи наш бизнес сократился по меньшей мере на тринадцать процентов. Слово «еврей» теперь у всех на устах.
– Не просто «еврей», – уточнил Малачи. – А тот еврей, то есть Рафаэлло. А здесь уже возникает существенная разница.
– Мы не можем позволить вам продолжать в том же духе, – сказал главный раввин. – Вы подвергаете опасности гетто. Навлекаете серьезные последствия, и не только на себя, а на всех нас. Будут введены еще более жесткие ограничения, объявлены новые законы. Это умножит наши беды. Мы просим вас остановиться. Рафаэлло, пожалуйста, ограничьте свою деятельность торговлей.
– Я не могу! И не буду! – бушевал Рафаэлло. – Что с вами случилось? Чего вы испугались? Погромов? Сейчас не средние века. Чем они могут еще досадить нам? Вы не добьетесь уважения, если будете унижаться. Когда вы ведете себя как слуги, с вами и обращаются как со слугами. Если вы станете извиняться за то, кто вы есть, всегда найдется, за что осуждать вас. Если уступите и подчинитесь без борьбы, то на вас взвалят еще большее бремя, и вы не сможете даже пошевелиться под гнетом их законов. Вы не устали жить как животные, загнанные в вонючий скотный двор? Разве вы не хотите, чтобы ваши сыновья жили лучше, чем вы? Я этого хочу. Хочу добиться свободы и для моих сыновей, и для себя. Немедленно. Сегодня…
– Рафаэлло, прошу тебя, – умоляющим тоном обратилась к нему тетя Ребекка. Рядом с ней стояла Лиа, широко раскрытыми глазами наблюдая за происходящим. Она не могла разобраться, в чем дело, но понимала, что речь идет о чем-то серьезном.
– Прости, тетя Ребекка, – решительно сказал Раф. – Теперь я уже не в силах остановиться. И не отступлю.
– Первый ваш долг – перед Богом. Второй – перед общиной, – напомнил ему главный раввин.
– Нет! Мой первый долг – перед моей верой, перед свободой. Переменами. Равенством всех перед законом.
– Думаю, Малачи, вам следовало уберечь его от этих бед в Америке, – проворчал банкир. – Ну к чему вся эта болтовня о демократии?
– Но что я мог сделать? – запричитал Малачи. – Я же не мог каждую минуту следить за ним!
– Не вините Малачи, – сердито сказал Раф. – Всю дорогу до Америки и обратно мы обсуждали с ним политические проблемы, законы, и я по сей день уверен, что он ошибается. Вы все ошибаетесь.
– Вы, Раф, понимаете, чем это может кончиться? – спросил молодой раввин. – Если вы не подчинитесь нашим требованиям, мы будем вынуждены отречься от вас.
Раф кивнул головой.
– Я понимаю. Но это не остановит меня.
Тетя Ребекка громко всхлипывала, прикрыв лицо фартуком.
– Мы даем вам ночь и еще один день на раздумье, – сказал старый раввин.
– Мне нечего раздумывать. Я не изменюсь, не перестану действовать во имя того, что, по-моему, справедливо. Делайте что хотите. – Раф посмотрел вокруг себя на бледные, бородатые лица. – С этого момента я не с вами. Я больше не еврей.
В комнате воцарилось молчание, и раздавались лишь всхлипы тети Ребекки. Лиа прижалась к старушке. Раввины и старшины молча покинули дом. Последним ушел Малачи, бросив на Рафа умоляющий взгляд. Раф покачал головой.
Когда они ушли, Раф подошел к женщинам и, положив руку на плечо своей тети, сказал:
– Я должен был так поступить, тетя Ребекка. Прости.
– Как я рада, что твоего дедушки нет в живых! – воскликнула она. – Он никогда бы не понял этого. Никогда! Я сама не могу понять, что происходит. Почему ты всегда думаешь только о себе? Никогда не предвидишь последствий своих поступков? Мне стыдно за тебя!
– Ты можешь уйти и жить в другом доме, – ласково сказал Раф. – Я это пойму.
– Ты хотел бы этого? Да? Тогда никто бы не вмешивался в твои дела. Нет, никуда я не уйду. Останусь здесь и буду присматривать за тобой.
– Спасибо, – тихо сказал он.
Покачивая головой, тетя Ребекка вышла из комнаты. Раф устало опустился в кресло.
– Налей мне немного вина, Лиа.
– Я не понимаю, синьор Раф. Что произошло? Что это все значит? Почему вы теперь не еврей?
– Потому что меня отлучили от веры. Или отлучат. Завтра… Соберутся в синагоге, зажгут свечи, развернут свиток торы. Они вытянут жребий, что должен будет прочесть раввин из налагаемых запретов. И это будет затем повторено по всему гетто. К завтрашнему вечеру все, даже дети, узнают, что случилось.
Лиа наполнила бокал вином и поставила его на стол напротив Рафа.
Он вперил взгляд в пространство.
– Так много законов, – пробормотал он. – Закон Божий. Закон природы. Гражданский закон. Закон гетто. Вы не можете ни двигаться, ни думать, ни совершать какие-либо поступки.
– Но что это значит? – настойчиво добивалась ответа Лиа.
– Я больше не существую. Они могут прогнать меня из гетто, тем самым сняв с себя всякую ответственность за меня. Меня не будут засчитывать в кворум, необходимый для совершения утренней молитвы. Я не буду участвовать ни в какой деятельности. Никому не разрешат разговаривать со мной или заключать сделки. Если я женюсь и моя жена родит, то ребенка не будут считать евреем. Если в моей семье кто-нибудь умрет, его нельзя будет захоронить в освященной земле.
– И как долго так будет продолжаться? – поинтересовалась Лиа. – Вечно?
Он пожал плечами.
– Пока они не отступят. Или я. Но я не отступлю. – Он глубоко вздохнул и осушил бокал вина. Лиа наполнила его вновь. Он выпил и второй. – Я больше не еврей, – пробормотал он. Он провел рукой по пышной бороде. – Ну, а если я больше не еврей, я и не должен быть похож на еврея. Разве не так?
На следующий день Лиа ушла после полудня на несколько часов из дома. Ее отсутствие привело тетю Ребекку в ужас. Она подозревала, что Лиа вернулась к актерской братии. Когда же Лиа наконец пришла домой – как раз перед самым закрытием ворот, – Ребекка отчаянно ругала ее, ибо она очень боялась потерять девочку. Лиа свое отсутствие объяснила тем, что хотела посмотреть на увеселения на площади. Ведь сегодня был карнавал.
Карнавал… Еще никогда Венеция не казалась Рафу столь продажной, лживой, навязчивой и опустившейся. Куда бы он ни пошел, всюду встречал бедность, вплотную соседствующую с великолепием. В нищих семьях, прозябающих в гетто, едва хватало хлеба, чтобы прокормить детей, и такие семьи полностью зависели от благотворительности.
А в мраморных палаццо вдоль Большого канала дворяне потчевали друг друга фруктами и прочими яствами.
Прикрыв лицо маской, не узнаваемый никем, Раф бродил по улицам. Он не был ни евреем, ни купцом, ни завсегдатаем пирушек. Просто еще один ряженый, отправившийся на поиски удовольствий. Ни в одно время года он не чувствовал себя таким свободным, как в пору карнавала. Юношей он, бывало, пропадал по две недели подряд, а безумно любящий его дед не сообщал властям о его отсутствии, поскольку не хотел, чтобы мальчика наказали. Те недели Раф проводил в объятиях жены французского посла. Она обучила его искусству любви и радостям свободы.
Веселье карнавала начинало нарастать сразу же после Двенадцатой ночи и продолжалось вплоть до масленицы, которая в том году выпадала на конец февраля.
Рафу казалось, что с каждым днем уличные толпы становились все многочисленней, появлялось все больше клоунов и искателей приключений, наряженных в маскарадные костюмы Панталоне и Арлекина, других персонажей традиционных итальянских пьес и сказок. По улицам бродили Пульчинеллы, одетые как на подбор в широкие белые пижамы, высокие без околышей шляпы, в гротескные маски с длинными, фаллосоподобными носами. Они учиняли беспорядки, похищали хорошеньких девушек и затаскивали их в темные закоулки, где по очереди предавались с ними любви.
Хотя стоял конец января и погода была часто неприятно холодной и сырой, веселье ни на секунду не затихало. Улицы были запружены гуляющими, кафе и рестораны работали сутками. Все были в масках: дож и слабоумный трясущийся старикан, епископ и нищий, монашка и люди неопределенных профессий. Маски были надеты даже на собак и обезьян. В масках были торговцы рыбой и цветочницы. Раф как-то увидел женщину в маске, которая давала грудь младенцу, на лицо которого тоже было натянуто некоторое подобие маски.
Наблюдая происходящее вокруг него и прислушиваясь к разговорам, Раф молча шел через город. Куда бы он ни попадал, он всюду слышал имя Фоски Лоредан. Люди говорили, что никогда еще жена комиссара не была так красива и не казалась такой веселой. Ее остроты повторялись прохожими, а о ее шутливых проказах рассказывали вновь и вновь.
Утверждали, например, что однажды драматург граф Карло Гоцци, вернувшись домой после вечернего представления в театре, увидел, что его дом сияет огнями и там гремит блестящий бал. Однако ливрейный лакей Гоцци не впустил его в дом, поскольку у того не было приглашения, и Гоцци стоял под собственным балконом и кричал: «Фоска, умоляю, впустите меня!»
Или еще одна история о вечере, когда она танцевала с одним из российских великих князей. Во время танца разорвалось ее жемчужное ожерелье. Великолепные жемчужины, отлично подобранные одна к другой и воистину бесценные, раскатились по всему залу. Синьора Лоредан продолжала танцевать как ни в чем не бывало, не сбившись с такта и не обратив ни малейшего внимания на случившееся. Этот пример стал символом карнавального сезона. «Пусть ничто не мешает наслаждению!»

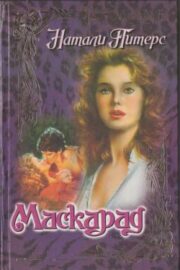
"Маскарад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Маскарад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Маскарад" друзьям в соцсетях.