— Ждать не особенно приятно, мистер Крокер, когда девушка беззащитна.
— Но я вовсе не отрешен, ждать нет надобности. Я думал, что вы страдаете так же как и я, а потому я прямо и прибежал к вам.
— Я и страдала, Сэм. Никто не знает, что я выстрадала.
— Но теперь все обойдется? — Клара покачала головой. — Неужели вы хотите сказать, что Триббльдэль был здесь и уже сбил вас с толку?
— Я хорошо знала мистера Триббльдэля прежде, чем познакомилась с вами, Сэм.
— Сколько раз вы при мне называли его жалкой дрянью?
— Никогда, Крокер, никогда. Такое слово никогда не срывалось у меня с языка.
— Так что-то совершенно в том же роде.
— Я, может быть, сказала, что ему недостает удали, хотя я этого не помню. Но если б и так, что ж из этого?
— Вы презирали его.
— Нет, Крокер. Вот я презираю человека, который разрывает бумаги ее величества. Триббльдэль никогда ничего не разорвал в конторе, кроме того, что разорвать следовало. Триббльдэля никогда не выгоняли чуть не на две недели, так чтоб он не смел показаться в конторе. Триббльдэль не заставил всех себя возненавидеть.
— Кто ж меня-то ненавидит?
— Мистер Джирнингэм, Роден, сэр Бореас, Боббин. — Она запомнила все их имена. — Как могут они не ненавидеть человека, который рвет бумаги! И я вас ненавижу.
— Клара!
— Ненавижу. Как смели вы сказать, что я употребляла такое неприличное выражение? Знаете, что я вам скажу, мистер Крокер, — можете себе отправляться. Я обещала быть женой Даниила Триббльдэля, и вам неприлично стоять здесь и разговаривать с молодой девушкой, которая невеста другого.
— И этим все и кончится?
— Надеюсь, мистер Крокер.
— Вот оно что!
— Если б вы когда-нибудь пожелали объясниться с дрогой молодой особой и дело зашло бы так далеко, как зашло оно у нас, не рвите бумаг. А когда она выскажет вам свое откровенное мнение, как сделала это я сейчас, не приписывайте ей неприличных выражений. Будьте так любезны, отправьте часы и фисгармонику к Даниилю Триббльдэлю, в Брод-Стрит.
С этим она оставила его, радуясь в душе, что свидание это кончилось без особых неприятностей.
Крокер, отрясая прах от ног своих, когда вышел из Парадиз-Роу, начал задавать себе вопрос, не должен ли он, в сущности говоря, поздравить себя с таким окончанием этого дела. Когда он решился просить руки молодой девушки, он конечно воображал, что в руке этой что-нибудь да будет. Клара, без сомнения, была красивая девушка, но уже не первой молодости. Характер у нее был не из толковых. За браком часто следует множество забот и огорчений. Парадиз-Роу, без всякого сомнения, не поскупится на насмешки, но ему незачем ходить туда, чтоб их слышать.
XXVII. Пегвель-Бей
Июль наступил и почти миновал, прежде, чем лорд Гэмпстед снова свиделся с Марион Фай. Он обещал, не ездить в Пегвель-Бей, с трудом понимая, зачем от него потребовали такого обещания, но все же согласился дать его, когда его о том просила мистрисс Роден, по просьбе, как она говорила, старика квакера. Било решено, что Марион скоро возвратится в Галловэй и что поэтому незачем нарушать мир и тишину Пегвель-Бея приездом такого великого человека, как лорд Гэмпстед. Гэмпстед, конечно, поднял эту причину на смех, но просьбу исполнил, под условием однако, что Марион возвратится в первой половине лета. Но проходила неделя за неделей, а Марион не возвращалась.
Они ежедневно писали друг другу, причем Марион всегда старалась, чтобы тон ее писем был веселый.
«Не следует вам сидеть в Гендоне, — писала она, — тратя жизнь попусту и ничего не делая из-за больной девушки. У вас яхта, а лето проходит».
В ответ на это, он написал ей, что продал яхту.
«Если б вы могли со мной ехать, я бы сохранил ее, — писал он. — Если б вы согласились ехать теперь, я снарядил бы вам другую, прежде чем вы бы сами собрались. О моей дальнейшей жизни я ничего не говорю. Даже приблизительно не могу угадать, что меня ожидает. Может быть, я и поселюсь на каком-нибудь корабле, чтоб быть в полном одиночестве. Но при настоящем состоянии моего сердца, мне невыносимо, когда другие говорят со мной о пустых удовольствиях».
В то же самое время он продал лошадей, но об этом он ей ничего не писал.
Мало-помалу он дошел до уверенности, что она обречена на раннюю смерть, почти признал, что она умирает. Тем не менее он продолжал думать, что хорошо было бы им обвенчаться. «Если б я знал, что она моя, хотя бы на смертном одре, — однажды сказал он мистрисс Роден, — я нашел бы в этом утешение». Он так горячо говорил об этом, что почти убедил мистрисс Роден. Отец относился к этому вопросу безразлично. Но сама Марион сурово восстала против этого. «Этого не должно быть, — сказала она, — это было бы дурно. Не таково значение брака».
«Я буду вашим утешением до конца, — писала она, — вашей Марион. Но я не хочу быть графиней только из-за того, чтоб ничего не значащее имя было вырезано на моем памятнике»…
«Господь приготовил вам горькую чашу, радость моя, — писала она в другом письме, — внушив вам мысль полюбить девушку, которой вы должны так скоро лишиться. Мне горько, потому что вам горько. Но нам не отделаться от этой горечи комедией. Неужели у вас на сердце стало бы легче, если б вы меня увидели в венчальном туалете, зная, как вы не могли бы не знать, что все это напрасно? Радость моя, примите это так, как Господь нам посылает. Я скорблю за вас и за моего бедного отца. Если б только вы могли заставить себя примириться, меня бы так радовала мысль, что вы любили меня в мои последние минуты».
Он не мог не принять ее решения. Отец ее и мистрисс Роден его приняли, он вынужден был сделать то же. Самая ее слабость придавала ей силу, которая покоряла его. Конец был всем его доводам и энергическим фразам. Он сознавал, что они не сослужили ему никакой службы, — что ее кроткие речи оказались сильнее всех его рассуждений.
— Принуждать я ее не стану, — говорил он мистрисс Роден. — По-моему, так было бы лучше. Вот и все. Конечно, будет так, как она решит.
— Для нее было бы утешением думать, что вы с ней одинаково смотрите на все, — сказала мистрисс Роден.
— Есть вопросы, относительно которых я не могу изменить своих убеждений, даже, чтоб ее утешить, — ответил он. — Она велит мне полюбить другую женщину. Могу ли я утешить ее, исполнив это? Она велит мне искать себе другую жену; могу ли я это сделать, или обещать, что сделаю, когда-нибудь, впоследствии? Для нее было бы утешением знать, что я не болен, не изранен, не истомлен. Для нее было бы утешением знать, что сердце мое не разбито. Как же мне доставить ей это утешение?
— Правда, — сказала мистрисс Роден.
— Утешения нет никакого. Воображение рисует ей какое-то будущее блаженство, которым мы будем наслаждаться вместе, причем мы будем точно такие же, как здесь, наши руки будут искать одна другую, наши губы — сливаться в поцелуй; это будет небо, но все же земное небо. Оно, по ее понятиям, будет наградой ее непорочности и в своей восторженной вере она верует в него, как будто оно тут, воочию. Я право думаю, что если б я сказал ей, что так и будет, что я надеюсь любоваться ее красотой через несколько коротких лет, она была бы совершенно счастлива. Счастие это было бы вечно, тут не было бы страха перед разлукой.
— Так почему же не веровать, как верует она?
— Лгать? Как я чувствую ее искренность, когда она исповедует передо мной свою веру, так она почувствовала бы мою ложь.
— Так неужели же нет будущей жизни, лорд Гэмпстед?
— Кто это говорит? Конечно, не я. Я не могу себе представить, что исчезну бесследно. Что же касается до счастия, я не решаюсь много думать о нем. Если тб я только мог несколько возвыситься нравственно, быть несколько ближе к Христу, которому мы поклоняемся, этого было бы довольно и без счастия. Если в этом сказании есть истина, Он не был счастлив. Зачем бы я стал искать счастия ранее, чем борьба среди многих миров окончательно очистит мою душу? Но думая так, веруя так, как могу я войти в сладостный, чисто эпикурейский рай, который этот ребенок приготовил для себя?
— Неужели он не кажется вам чище этого?
— Что может быть чище, если только тут истина? Хотя бы для меня это была ложь, для нее это может быть истина. Ради меня мечтает она о своем рае, чтоб мои раны зажили, чтоб мое сердце исцелилось.
При таких разговорах мистрисс Роден бывала поражена глубиною чувства этого человека. Он часто говорил с ней о своей дальнейшей жизни, всегда при этом разумея жизнь, из которой Марион будет изъята смертью, и делал это с холодным, бесстрастным спокойствием, которое показывало ей, что решение его, относительно будущего, почти окончательно принято. Он посетит все страны, которые стоит видеть, побеседует со всеми народами. Социальные условия божьих созданий, вообще, будут предметом его изучения. Задача будет бесконечная, а бесконечная задача, как он говорил, почти не допускает полного отчаяния.
— Если я умру, всему будет конец. Если я доживу до таких лет, когда старость лишит меня возможности продолжать мой труд, то, вероятно, чувство это уже несколько сгладится, под влиянием времени, — говорил он мистрисс Роден, глаза которой при этом наполнялись слезами.
Наконец, в самом конце июля, он получил письмо в котором его просили приехать в Пегвель-Бей.
«Мы так давно не видались, — писала она, — и, может быть, лучше, чтоб вы приехали сюда, чем я к вам. Доктор встревожен и уверяет, что так лучше. Но мой милый пожалеет меня, не правда ли? Когда я увидела слезу в ваших главах, его меня совсем уничтожило. Что женщина или даже мужчина плачет при каком-нибудь неожиданном, печальном известии, это естественно. Но кто же плачет о непоправимом? Обещайте мне, что склонитесь с благоговением, послушанием и любовью над десницей Божией, как бы тяжела она вам ни казалась».

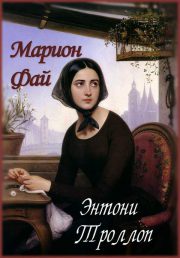
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.