Но, как я уже сказала, что все это значит в сравнении с породой? Это совершенно изменяет твое положение. Конечно, ты во всяком случае, сохранила бы свой титул, но что бы сталось с ним?
Хотелось бы знать, выйдешь ли ты теперь замуж до августа? Думаю, что нет, так как кажется не совсем известно, когда именно его «шалун» папаша умер; надеюсь, что не выйдешь. У нас, наконец, назначен день — 20 августа, помнится, я уже говорила тебе, что мой будущий beau-frère, лорд Давид, убежит тотчас после венчания, чтоб, проведя всю ночь в дороге, на следующее утро «открывать» что-то в Абердине. Упоминаю об этом, т. е. о назначении дня, потому что ты будешь самой выдающейся из моей стаи в двадцать птичек. Конечно, имя твое, ранее этого, попадет в газеты, как имя будущей итальянской герцогини. Признаюсь, что я буду этим, не без основания гордиться. Кажется, наконец-то вся моя стая собрана, надеюсь, что ни одна из моих двадцати подруг не выйдет замуж ранее меня. Это случалось так часто, что можно в отчаяние придти. Я заплачу, если узнаю, что ты выходишь первая.
Остаюсь твоей любящей подругой и кузиной
По тому же поводу она написала и своему будущему мужу.
«Дорогой Льюддьютль,
Очень было мило с вашей стороны приехать в прошлое воскресенье, но жаль, что вы ушли только потому, что Гресбёри были у нас. Они бы вас не съели, хотя он и либерал.
Я писала Фанни Траффорд, чтобы поздравить ее; потому, что все-таки это лучше, чем простой почтамтский клерк. То было ужасно; — так ужасно, что почти неловко было упоминать имя ее в обществе! Когда об этом заходила речь, я право чувствовала, что вся краснею. Теперь можно ее назвать, так как не все же знают, что у него ничего нет. Тем не менее, это тоже ужасно. Чем они будут жить?
Папа говорит, что вы сказали, что жениху Фанни надо попасть в парламент. Но что он этим выиграет? Может быть, так как он служит в почтамте, его могли бы сделать главным директором почт. Только папа говорит, что, вступивши в парламент, он не мог бы называться герцогом ди-Кринола. Вообще, это очень грустно, хотя не совсем так грустно, как прежде. Правда, что один из ди-Кринола был женат на принцессе из дома Бурбонов, а другие на бесчисленных принцессах крови. По-моему, должен был бы существовать закон, который предписывал бы выдавать таким лицам средства к жизни из налогов. Как можно от них требовать, чтобы они жили ничем? Я спросила папа́, не может ли он это устроить; но он ответил, что это был бы финансовый билль и что вам следовало бы этим заняться. Пожалуйста, не увлекайтесь, чтобы это не заняло у вас весь август. Знаю, что вы без зазрения совести отложили бы наше собственное дельце, если бы что-нибудь подобное встретилось вам. Я даже думаю, что вы бы обрадовались.
Останьтесь подольше в воскресенье. Мне столько надо сказать вам. Если вы что-нибудь придумаете для этих бедных ди-Кринола, что-нибудь, что не займет «весь» август, похлопочите об них.
Лорд Льюддьютль ответил невесте:
«Дорогая Ами,
Буду у вас в воскресенье, к трем часам. Если хотите, можем сделать прогулку, но теперь постоянно идет дождь. Позже у меня назначено совещание с несколькими членами консервативной партии, для обсуждения вопроса: что делать по поводу билля мистера Грина «Об освещении Лондона электричеством». Это было бы всем на руку, но боюсь, что некоторые члены нашей партии увлеклись бы общим примером, а правительство очень нерешительно, до глупости. Я изучал цифровые данные, это взяло у меня всю неделю. Иначе я навестил бы вас.
Эта история ди-Кринола совершенный роман. Я не хотел сказать, что он должен попасть в палату, чтобы, через это, получить средства к жизни. Если он примет титул, то, конечно, он сделать этого не может. Принявши его, он должен будет считать себя итальянцем. Я счел бы его не менее достойным уважения, если бы он заработывал свой хлеб в качестве простого клерка. Говорят, что он человек с сердцем и характером. Если это правда, он именно так и поступит.
Когда лорд Персифлаж заговорил об этом деле с бароном д'Оссе, итальянским посланником в Лондоне, барон вполне признал права молодого герцога и, казалось, думал, что очень немногого недостает для полного благополучия молодого человека.
— Да, — сказал барон, — у него нет обширных поместий. Здесь, в Англии, у вас у всех обширные поместья. Очень приятно владеть обширными поместьями. Но у него есть дядя, который играет большую роль в Риме, а у будущей жены его — дядя, который играет очень большую роль в Лондоне. Чего ж ему больше?
Тут барон поклонился министру, а министр барону.
Нигде решительно приключения Родена не вызвали такого сильного впечатления как в почтамте. Там титулы еще внушали некоторый страх, а не были делом самым обыкновенным, как в министерстве иностранных дел. Конечно, вся эта история попала в газеты. В департаменте она стала известна в последний день февраля, за два дня до возвращения Роденов в Лондон.
— Слышали, мистер Джирнингэм? — воскликнул Крокер, врываясь в комнату в это утро. Он опоздал только на десять минут, разорившись на извозчика от сильного желания первому сообщить великую новость товарищам. Но его предупредил Гератэ.
— Герцог ди-Кринола! — кричал Гератэ в минуту появления Крокера, решившись никому не уступать чести, принадлежавшей ему по праву.
— Да, герцог, — сказал Крокер. — Герцог! Мой лучший друг! Гэмпстед уничтожен, уничтожен! Герцог ди-Кринола! Разве это не прелесть? Клянусь, не верится. Вы верите, мистер Джирнингэм?
— Не знаю, что и думать, — сказал мистер Джирнингэм. — Только он всегда был очень солидный, приличный молодой человек; мы в нем много потеряем.
— Вероятно герцог никогда к нам не взглянет, — сказал Боббин. — Мне бы хотелось еще раз пожать ему руку.
— Пожать ему руку, — сказал Крокер. — Я уверен, что он так не исчезнет, мой искренний приятель. Не думаю, чтобы я когда-нибудь любил кого-нибудь как Джорджа Ро… герцога ди-Кринола, хочу я сказать. Подумать, что я сидел с ним за одним столом последние два года! Не более как за два дня до его отъезда в это знаменитое путешествие, я провел с ним вечер, в свете, в Голловэе. — Тут он встал и порывисто зашагал по комнате, хлопая в ладоши, совершенно увлеченный пылкостью своих чувств.
— Мне кажется, вам не худо бы присесть к столу, мистер Крокер, — сказал мистер Джирнингэм.
— Ах, отвяжитесь, мистер Джирнингэм.
— Я не позволю вам так относиться во мне, мистер Крокер.
— Честное слово, я не хотел сказать ничего лишнего, сэр. Но когда человек услышал такую новость, разве он может успокоиться? Таких вещей прежде никогда не бывало, чтобы ваш лучший друг оказался герцогом ди-Кринола. Читал ли кто-нибудь из вас что-нибудь подобное в романе? Разве это не было бы эффектно на сцене? Я так и вижу свою первую встречу с герцогом, как она была бы изображена в пьесе. Герцог, сказал бы я, герцог, поздравляю вас с унаследованием вашего громкого, фамильного титула, которого никто не мог бы носить с большей честью, чем вы. Банкрофт изображал бы меня, а заглавие пьесы было бы: «Друг герцога». Я думаю, мы будем называть его «герцогом» здесь, в Англии, а «duca», если нам случится быть вместе, в Италии; как вы думаете, мистер Джирнингем?
— Вы бы лучше сели, мистер Крокер, и постарались заняться своим делом.
— Не могу, честное слово, не могу. Я слишком взволнован. Я не мог бы этого сделать, будь здесь сам Эол. Кстати, хотел бы я знать — слышал ли сэр Бореас новость.
С этим он бросился из комнаты и положительно ворвался в кабинет повелителя.
— Да, мистер Крокер, — сказал сэр Бореас, — слышал я это. Я читаю газеты не хуже вашего.
— Но это правда, сэр Бореас?
— Я слышал об этом два, три дня назад, мистер Крокер, и думаю, что это правда.
— Он был мой друг, сэр Бореас, мой лучший друг. Разве это не удивительно, что мой лучший друг оказался герцогом ди-Кринола! А сам он об этом ничего не знал. Я совершенно уверен, что он ровно ничего не знал.
— Право не умею вам сказать, мистера Крокер; но так как вы уже выразили свое удивление, то не лучше ли вам возвратиться к себе в отделение и приняться за работу.
XV. Это будет сделано
Долго стоит у нас лорд Гэмпстед в гостиной Марион Фай, после совершения своего великого преступления; там же стоит и мистрис Роден, которая пришла навестить молодую приятельницу почти тотчас по возвращении своем домой из долгого путешествия. Гэмпстеду была известна большая часть подробностей романа ди-Кринола, но Марион пока ничего о нем не слыхала.
— Вы так поступили со мной, что мне самой себя стыдно, — были последние слова Марион в ту минуту, когда мистрис Роден входила в комнату.
— Я не знала, что лорд Гэмпстед здесь, — сказала мистрис Роден.
— О, мистрисс Роден, как я рада, что вы приехали, — воскликнула Марион. Гэмпстеду показалось, что Марион радуется, что у нее явилась защита от дальнейших необузданных выходок с его стороны. Сама бедняжка Марион едва ли знала, что хотела сказать. Она не сердилась на него, но сердилась на себя. В ту минуту, когда она была в его объятиях, она поняла, как невозможны были условия, которые она ему предписала. Она много раз говорила себе, что ее долг пожертвовать собою, но исполнила его только на половину. Разве ей не следовало затаить в душе свою любовь, чтоб он мог оставить ее, что он наверное сделал бы, если б она держала себя с ним холодно, как этого требовал ее долг. Ей приснился глупый сон. Она вообразила, что на то недолгое время, какое ей остается жить, она может разрешить себе наслаждение любить и имела тщеславие думать, что ее поклонник мог быть верен ей и сам не страдать! Жертва ее была неполна. Да, она сердилась на себя — но не на него. А все же его надо заставить признать, что он никогда, никогда более не должен к ней приезжать. Душа может предвкушать такую дивную радость; чтоб насладиться ею хотя бы на минуту, можно пожертвовать спокойствием, даже счастием многих лет. Так будет с нею. Он никогда не должен более приезжать…

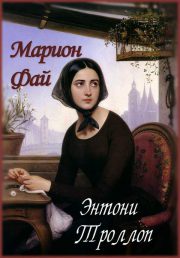
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.