— Кто их взвешивал? — спросил Гэмпстед.
— Как легко узнать сторонника утилитаризма по самому характеру его вопросов! Если человек и не наловит «целую» тонну, он может сказать, что наловил, а одно почти стоит другого.
— Вы с собой забираете сети? — спросил Роден.
— Нет. У Гэмпстеда не хватило бы терпения. Да и Фритредер недостаточно велик, чтоб увезти рыбу. Но я охотно прозакладаю соверен, что буду что-нибудь убивать всякий день — за исключением воскресений.
О лэди Франсес не было сказано ни слова, хотя было несколько минут, в течение которых Роден и лорд Гэмпстед оставались наедине. Роден решил, что не будет предлагать никаких вопросов, если разговор сам собой не коснется этого предмета, и даже не намекнул ни на кого из членов семьи; но в течение вечера он узнал, что маркиз возвратился из Германии с намерением отдаться своим парламентским обязанностям в течение остатка сессии.
Этим путем Роден узнал, что маркиз, который, едва узнавши о их помолвке, увез свою дочь в Саксонию оставил ее там и возвратился в Лондон. Возвращаясь домой в этот вечер, он думал, что он обязан — отправиться к лорду Кинсбёри, и сказать ему, лично от себя, то, что отец пока еще слышал только от дочери или от жены. Он знал, что человек, увлекший сердце девушки, должен идти к отцу ее и просить позволения продолжать свое ухаживание. Ему казалось, что он обязан исполнить этот долг, несмотря на то, что отец — такое высокопоставленное и могущественное лицо как маркиз Кинсбёри. Исполнить это, до сих пор, было не в его власти. Маркиз узнал новость, тотчас же схватил дочь и увез ее в Германию. Можно было бы написать ему, но Родену казалось, что не так следует исполнить подобную обязанность. Теперь маркиз возвратился в Лондон, и хотя процедура будет неприятная, чувство долга брало верх. На другой день он сообщил мистеру Джирнингэму, что важное частное дело требует его присутствия в Уэст-Энде, и попросил дозволения отлучиться. Утро в этом отделении почтамта, прошло в более глубоком молчании, чем обыкновенно. Крокер собирался с силами для нападения, но до сих пор мужество изменяло ему. Когда Роден надел шляпу и отворил дверь, он сказал: «Засвидетельствуйте мое почтение лорду Гэмпстеду и скажите ему, что я надеюсь, что котлеты ему понравились».
Роден простоял с минуту, держась рукой за дверь, ему хотелось броситься на Крокера, наказать его за дерзость, но он наконец решил, что лучше будет промолчать.
Он отправился прямо в Парк-Лан, думая, что вероятно застанет маркиза перед его выходом из дома после завтрака. Он никогда прежде не бывал в городском доме, известном под именем Кинсбёри-Гоуз и обладавшем всей величавой обстановкой, какая может быть придана городской резиденции. Когда он позвонил у дверей, он сам себе признался, что ощутил некоторый страх, которого устыдился. Сказав так много дочери, не должен же он пугаться разговора с отцом. Но он чувствовал, что уладил бы дело гораздо лучше, если б свидание происходило в Гендон-Голле, доме лорда Гэмпстеда, который далеко не был так внушителен как Кинсбёри-Гоуз. Едва он успел позвонить, как дверь отворилась и он увидел перед собой, кроме привратника, и напудренного лакея. Напудренный лакей не знал, дома милорд, или нет; он осведомится. Не угодно ли джентльмену присесть и подождать минуты две? Джентльмен присел и подождал, как ему показалось, более получаса. Дом должен быть необыкновенно велик, если слуге потребовалось столько времени, чтоб разыскать маркиза. Он уже начинал подумывать, как бы ему половчее улизнуть, когда лакей возвратился, и с холодной, недружелюбной миной попросил Родена следовать за ним. Роден был совершенно уверен, что должно случиться что-нибудь дурное, — так холоден и недружелюбен был тон этого человека; но тем не менее он последовал за ним, так как уйти ему не представлялось никаких средств. Лакей не сказал, что маркизу угодно его видеть, даже не намекнул, дома ли маркиз. Казалось, будто его ведут на казнь за то, что он имел дерзость позвонить у дверей. Тем не менее он следовал за своим проводником. Его повели по коридору первого этажа, мимо многочисленных дверей, и ввели наконец в довольно мрачную комнату, все стены которой были уставлены книгами. Здесь он увидал старого джентльмена; но старый джентльмен был не маркиз Кинсбёри.
— А, э, о, — сказал старый джентльмен. — Вы, полагаю, мистер Джордж Роден?
— Это мое имя. Я надеялся видеть лорда Кинсбёри.
— Лорд Кинсбёри счел лучшим для всех заинтересованных сторон, чтоб… чтоб… я вас принял, если уж это необходимо. Зовут меня Гринвуд, преподобный мистер Гринвуд; я — капеллан милорда и, если могу принять смелость это сказать, его самый преданный, самый искренний друг. Я уже очень давно имею честь находиться в сношениях с милордом, а потому ему угодно было поручить мне эту… эту… щекотливую обязанность, — так, кажется, всего приличнее будет ее назвать. — Мистер Гринвуд был человек маленького роста, толстый, лет шестидесяти, с отвислыми щеками и отвислым подбородком; несколько седых, тщательно расчесанных волос прикрывали его голову, у него был, красивый лоб и нос, смолоду он, вероятно был хорош собой, хотя маленький рост не отвечал понятию о мужской красоте. Теперь, в старости, он сделался апатичным и не любил движения; а растолстев, окончательно пошел в ширину и смотрел толстым карликом. Тем не менее в лице его еще сохранилась бы некоторая приятность, если б не выражение сомнения и колебания, которое как будто бы обнаруживало трусость. В настоящую минуту он стоял посреди комнаты, потирая руки, и почти дрожал, объясняя Джорджу Родену, кто он такой.
— Я желал видеть самого милорда, — сказал Роден.
— Маркиз был не того, мнения, и я должен сказать, что согласен с маркизом.
В настоящую минуту Роден почти не знал, как и продолжать затеянное дело.
— Полагаю, что я имею право вас удостоверить, что все, что бы вы сказали маркизу, вы можете сказать мне.
— Так я должен понять, что лорд Кинсбёри не желает меня видеть?
— Да, пожалуй. В настоящую критическую минуту не желает. К чему может это повести?
Роден пока еще не знал, насколько он может касаться лэди Франсес в разговоре с священником, но ему не хотелось уйти, не намекнув даже на дело, которое его занимало. Ему особенно не хотелось произвести такое впечатление, будто он боится упомянуть о том, что сделал.
— Мне хотелось переговорить с милордом о его дочери, — сказал он.
— Знаю, знаю, леди Франсес! Я знал лэди Франсес с ее раннего детства. Я питаю самую горячую преданность к лэди Франсес, так же как и к лорду Гэмпстеду, к маркизе, и к ее трем дорогим мальчикам, лорду Фредерику, лорду Огустусу и лорду Грегори. Я не решаюсь назвать их моими друзьями, так как думаю, что различие, какое Господу угодно было установить между сословиями, должно поддерживаться, сохраняя для лиц высокого рода все их привилегии и все их почести. Хотя я, в течение долгой жизни, соглашался с маркизом насчет тех политических принципов, пропагандой которых он всегда стремился улучшить положение низших классов, я тем не менее стремлюсь и стремился поддержать всеми скромными средствами, какие могут быть в моей власти, ту разнородность сословий, которой, в соединении с протестантской религией, мне кажется, должны быть главным образом приписаны благосостояние этой страны и ее высокое положение. Дорожа этими чувствами, я не желаю, особенно при таком случае, как настоящий, хотя бы случайным выражением ослабить уважение, которое я считаю должной данью всем членам такого аристократического семейства, как семейство маркиза Кинсбёри. Оставив это на минуту, я, может быть, могу решиться в данном случае, — так как мне доверена столь щекотливая задача, — заявить о моей горячей дружбе ко всем, кто носить досточтимое имя Траффордов. Во всяком, случае я имею право настолько считать себя другом их, что вы можете сказать мне, по этому щекотливому вопросу, все, что сочли бы нужным сказать отцу молодой девушки. Как бы неудобны ни были всякие разговоры, милорд поручил мне выслушать — и отвечать.
Джордж Роден, во время этой скучной проповеди, стоял против проповедника со шляпой в руке, так как ему еще не сделали чести предложить ему стул. Во время проповеди проповедник ни на минуту не переставал дрожать и, по-видимому, боялся заглянуть в лицо своему слушателю. Родену казалось, что все это старик выучил наизусть, слова так и лились, в них было столько умиления и горячности, и самая плавность речи представляла такой сильный контраст с манерой говорившего. В каждом слове заключалось оскорбление для Родена. Ему казалось, что оскорбительные выражения подбирались с намерением. Всеми этими длинными фразами о сословиях, в которых мистер Гринвуд выражал собственное смирение и недостоинство для роли друга в таком аристократическом семействе, он очевидно имел намерение подчеркнуть гораздо более явное недостоинство своего слушателя для роли даже более важной, чем роль друга. Если слова явились под влиянием минуты, у него, думалось Родену, должна быть огромная способность проповедовать без приготовления. Время, проведенное в зале, показалось ему долгим, но оно было непродолжительно для передачи желаний маркиза и для приготовления всех этих фраз. Ему, однако, было необходимо отвечать без всяких приготовлений.
— Я пришел, — сказал он, — сказать лорду Кинсбёри, что я влюблен в его дочь.
При этих словах толстенький человечек в изумлении поднял обе руки, хотя он уже ранее объяснил, что все обстоятельства ему известны.
— И я счел бы долгом прибавить, — сказал Роден, вооружаясь всем своим мужеством, — что молодая девушка также меня любит.
— О, о, о! — Руки поднимались все выше и выше при этих восклицаниях.
— Отчего же нет? Разве правда не всего дороже?
— Молодой человек, мистер Роден, никогда не должен хвастать привязанностью молодой девушки; в особенности, когда я даже не могу допустить, чтоб подобная привязанность существовала, — и еще менее в доме ее отца.

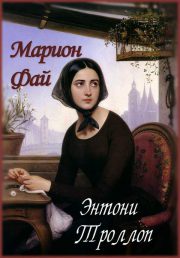
"Марион Фай" отзывы
Отзывы читателей о книге "Марион Фай". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Марион Фай" друзьям в соцсетях.