Губернатор посторонился, пропуская его вперед, однако Бофор предпочел стушеваться и уступить место герою клана Лазье, великому страдальцу.
— Я, знаете ли, предвидел, что ваш друг тоже будет сопровождать вас, и велел поставить удобные кресла для него и для вас…
Бофор кивком головы поблагодарил за предупредительность. Потом позади Лазье пошел в залу, за ним последовал и Лапьерьер. Вся процессия двинулась вперед со смехом и возгласами, в которых Лапьерьер без труда уловил насмешки в свой адрес, и это обстоятельство вызвало у него такое раздражение, что он подумал про себя, что, в конце концов, с удовольствием размозжил бы своим пистолетом голову одному из этих мерзавцев, а особенно Бофору!
Тем не менее он прошел в глубь залы, поднялся на небольшой помост и уселся за стол, на котором были приготовлены перо и чернильница.
Потом вытащил из кармана бумагу, в которой Бофор тотчас же узнал сочиненную им хартию.
— Господа, — начал губернатор, положив перед собою листок, — я намерен поставить свою подпись рядом с вашими…
Он оглядел сообщников, поочередно останавливая взгляд на каждом из них, будто пересчитывая, что, по всей видимости, он и делал, ибо голос его слегка дрогнул, когда он дошел до двадцать второго.
В голове молнией пронесся вопрос, как сможет справиться с этим непредвиденным осложнением Лефор!
Не исключено, что бывшему пирату не удалось увеличить число своих людей, и Лапьерьер оцепенел от ужаса при мысли о резне!
Потом вновь обрел дыхание и вдруг изменившимся, каким-то напряженным голосом начал речь:
— В этот торжественный день позвольте мне воздать честь колонистам Мартиники, которые своими усилиями, своим упорным трудом сделали из этой земли, часто неблагодарной, одну из самых богатых колоний, которой может гордиться французская корона… Однако, прежде чем этот остров будет управляться на новый манер, позвольте мне пожелать всем вам, кто явился сегодня сюда, и тем, кого уборка урожая удержала по домам, процветания…
Голос его заметно набирал силу. Поначалу дрожащий и неуверенный, он мало-помалу обрел силу и звонкость. Теперь он доносился даже до апартаментов губернатора.
Из его кабинета, примостившись на коленях у окна и стараясь не показывать своего лица, слишком узнаваемого и слишком всем хорошо известного, Лефор мог видеть в проеме окна, как Лапьерьер, стоя перед мятежниками, поднимал руки и делал величавые жесты, будто пытаясь придать побольше убедительности своим словам.
Он ясно различал и Бофора в его роскошном облачении, рука на эфесе шпаги, с гордо выпяченной грудью и видом победителя. Лефор мог поклясться, что знал, о чем тот сейчас думал!
«Давай, давай! — будто говорил его вид. — Мели языком, наш славный временный губернатор! Пользуйся случаем, пока ты еще на этом постаменте!.. Ведь завтра тебя уже с нетерпением поджидает одна из провонявших темниц бастиона!.. Давай произнеси-ка нам какую-нибудь красивую речь, как-никак она ведь последняя в твоей карьере!..»
Ничто не ускользнуло от глаз бывшего пирата с тех пор, как появились мятежники.
Он следил за ними взглядом до тех самых пор, пока они не вошли в парадную залу. Он с трудом сдержал смех, когда увидел Бофора в его помпезном наряде.
— Тысяча чертей! — воскликнул он. — Никогда еще ни один командор Мальтийского ордена не появлялся на людях в этаком карнавальном наряде! Что и говорить, из господина де Бофора должен получиться вполне пригожий мертвец!
Он подсчитал, сколько времени осталось еще жить его врагу, и широкую грудь его так и распирало от радости, однако, увидев, как из кареты вылез Лазье, бывший пират сразу помрачнел и выругался. Стало быть, он все еще жив, этот негодяй! Выходит, удар его шпаги не стал для него смертельным!
В тот момент, когда до него донесся обрывок фразы: «…пожелать всем вам», Лефор одним махом вскочил с колен и торопливо зашагал к двери. Потом поднял руку.
— Господа, — громким голосом произнес он, — час пробил!
Послышалось бряцанье оружия, Лефор пересчитал своих людей. Их было семнадцать, считая монаха, восемнадцать вместе с ним, а вовсе не шестнадцать, как он непонятно по какой такой фантазии сообщил Лапьерьеру.
Францисканец был в сером облачении и, как алебарду, нес перед собой сплошь изъеденного жучками огромного деревянного Христа. Он подошел к Лефору, вытаращив на него изумленные глаза.
— Сын мой, — спросил он, — может, вы наконец расскажете мне, для какой такой церемонии вы меня сюда привели? Вы только что объявили, что час пробил! Так решайтесь же, объясните, чего вы от меня хотите?
— Экий вы у нас нетерпеливый, — проговорил Лефор, — наш веселый монах! Погодите минутку, дьявол вас побери! Дайте мне время, чтобы я мог приказать начать увеселения!.. Но коли уж вам так не терпится, скажу, что вам надо будет благословить парадную залу этого форта. И уж, можете поверить мне на слово, вы не потеряете времени даром, ибо там есть и выпивка, и закуска, и шуму тоже будет предостаточно!
Францисканцу ничего не оставалось, как довольствоваться этим объяснением, потому что Лефор уже отвел в сторону Лесажа и громким голосом, чтобы его могли услышать и все остальные, сообщил:
— Их двадцать два!
Лесаж скверно выругался.
Бывший пират пронзил его испепеляющим взглядом.
— Брат мой, — обратился он к нему, — я знаю, что этот монах пьет и богохульствует, как канонир, но имейте хотя бы уважение к его сутане! Двадцать два! Хорошенькое дельце! Ладно, каждый поступает, как было уговорено, а довеском займусь я один!
— Если у нас есть еще время, — вмешался Лафонтен, — может, было бы благоразумнее изменить наш план, чтобы учесть те осложнения, которые внесли в него эти новые люди…
— Во времена, когда я плавал с капитаном Барракудой, — ответил ему Лефор, — у нас, бывало, приходилось по десятку врагов на каждого доброго крутого пирата, и ничего. А ведь у нас, заметьте, не было с собой ни монахов, ни деревянных распятий, которые могли бы нас поддержать! Пятью подонками больше, пятью меньше, уж, во всяком случае, не такая малость может заставить меня отступить в последнюю минуту!
Он порадовался, что позаботился как следует накачать францисканца, ибо тот, ничего не поняв из его слов, лишь блаженно улыбался на манер святых, что украшали витражи его часовни.
— Господа, я не зову вас на абордаж! — вновь заговорил Лефор. — Но, как кричал некогда старый капитан Кид, да спасет Господь его душу, я говорю вам: «Цельтесь вернее!» Если кто-то из вас дрогнет, если у кого-то появится страх промахнуться промеж глаз, пусть целится своему подопечному в грудь! Так мишень пошире и поменьше риска зазря растранжирить свинец! Во всем остальном положитесь на меня. Главное, уложить их всех на пол, а уж потом у меня на поясе найдется, чем охладить их пыл окончательно! Вперед, друзья мои!
Под предводительством Лефора они выстроились в ряд, с францисканцем, держащим в руках свое распятие, во главе. Группа направилась к крытой галерее, потом к лестнице. Когда они достигли лестничной площадки, монах то ли по привычке, то ли из чрезмерного рвения принялся распевать церковные гимны.
— Неплохие песенки, — воскликнул Лефор, — только, ради всех святых, отец мой, умерьте пыл, пойте под сурдинку! Дело в том, что мы подготовили губернатору и его гостям небольшой сюрприз… А если они услышат ваши песнопения, то это уже будет не сюрприз!
Монах замолк, и вся процессия вошла во двор.
Они шли в безукоризненном порядке, монах по-прежнему во главе, покачиваясь, словно маятник, то вправо, то влево в тщетных попытках сохранить равновесие, с источенным червяками распятием в руках, однако в какой-то момент бывший пират покинул ряды. Он добежал до подземного выхода из крепости и от имени губернатора отдал часовому приказ закрыть тяжелую дверь.
Потом снова вернулся к колонистам, но не сразу, а сделав крюк, чтобы фигура его не была видна через открытые окна мятежникам.
Люди его уже разошлись по своим местам, с мушкетами в руках присев на корточки пониже оконных переплетов. Только один монах, который все еще верил в шуточный дружеский сюрприз, пьяный в стельку и стараясь держаться прямо, будто аршин проглотил, фамильярно опершись на своего Христа, обводил все вокруг блуждающим взором, в котором читалось все более полное непонимание происходящих событий.
Голос Лапьерьера становился все громче и громче. Никогда еще не случалось Бофору встречать человека, который бы с таким красноречием защищал его дело.
Лефор сделал знак монаху подойти к нему поближе, и святой отец с невозмутимым спокойствием сделал, что ему было велено.
— Отец мой, — спросил его Лефор, торопливо и приглушив голос, — вы помните, что я вам говорил?
— Ах, сын мой! — икая, проговорил тот. — Вы мне столько всякого наговорили! Освежите же мне память, прошу вас!
— Послушайте, монах, помнится, я уверял вас, что даже черным ободочком своего мизинца не сунусь в дела мятежников! Так вот, отец мой, все вышло совсем по-другому!.. Люди, которых вы видите перед господином Лапьерьером, временным губернатором Мартиники, есть опасные бунтовщики, которые замыслили взорвать форт… Их заговор только что раскрыт!
— Так вот оно что, сын мой! У каждого есть свои враги! Пойду-ка прочитаю им «Отче наш»…
— Эй-эй-эй! — осадил его Лефор. — Хорошенькие молитвы, когда здесь вот-вот свинец застучит словно град! Поберегите-ка лучше свои силы для умирающих, если они еще будут! А сейчас для вас есть дела поважнее! Нам понадобится ваша помощь; для начала приладьте куда-нибудь это нескладное распятие, чтобы освободить себе руки, ибо у вас будет шанс воспользоваться ими по назначению!
— Ах, сын мой! — проговорил монах. — Будем же благоразумны… Не надо заходить слишком далеко…

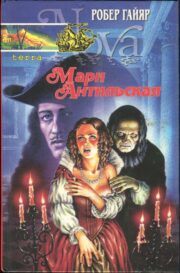
"Мари Антильская. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Мари Антильская. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мари Антильская. Книга первая" друзьям в соцсетях.