— Я раньше думала, что если сфотографируешь кого-нибудь, то никогда этого человека не потеряешь, — рассуждала Казуми. — Но теперь я понимаю, что все наоборот. Наши фотографии показывают нам все, что мы потеряли.
— С нами этого не произойдет. Когда люди друг другу небезразличны, то они не теряют друг друга.
— Это совершенное деримо! — воскликнула она с возбуждением. Я не смог сдержать улыбки. Она иногда немного искажала слова, отчего ее язык приобретал особенное очарование. — Совершенное деримо.
Я отрицательно покачал головой:
— Ты всегда будешь особенной для меня, Казуми. И я всегда буду о тебе помнить. Даже если ты встретишь другого мужчину. Как же могут два человека, которые любили друг друга, когда-нибудь друг друга потерять?
— Не знаю. Я не могу этого объяснить, но именно так и происходит.
— Я не хочу, чтобы ты уходила из моей жизни.
— Я тоже.
— В мире живут четыре миллиарда человек. Из них мне близка только горстка людей. Включая тебя. Особенно тебя. Поэтому не говори так, как будто мы бросаем друг друга.
— Хорошо, Гарри.
— Вместе и навсегда? Она улыбнулась:
— Вместе и навсегда, Гарри.
— Пока, Казуми.
— Пока.
Я смотрел ей вслед, пока она спускалась с холма по одной из тех дорожек, которые пересекали парк во всех направлениях. Эти тропы разбегались в разные стороны, напоминая все те невозможные варианты выбора, которые встают перед нами в жизни, выбора, который необходимо сделать, чтобы двигаться дальше.
Я стоял, пока она не скрылась из виду, зная, что никогда не перестану спрашивать себя, какой стала бы наша жизнь, если бы мы с ней были вместе, и никогда не перестану любить ее и думать о ней.
И как только она вышла из парка, исчезнув из поля зрения, что-то произошло. Хотя, может, мне и показалось. Мне привиделось, что все фонари над Примроуз-Хилл погасли.
Больше я ее никогда не видел.
Мама надела свой парик Долли Партон и пошла в магазин. Маленький магазинчик по соседству, в котором она делала покупки десятки лет, недавно закрылся, потому что его владелец вышел на пенсию, так что теперь ей приходится ездить в огромный гипермаркет, расположенный довольно далеко. «Гораздо больший выбор, дорогуша». — Но автобусы в этом районе ходили очень плохо, поэтому мы с Пэтом раз в неделю отвозили ее в магазин на машине.
Когда мы, везя тележку, направлялись в мясной отдел, вдруг столкнулись с пожилым мужчиной, у которого в плетеной корзинке лежала одинокая баночка кошачьих консервов. На обрюзгшем стариковском подбородке виднелась седая трехдневная щетина, а на плечах у него был надет вязаный жакет, хорошо побитый целым выводком моли. Приглядевшись к старику, я понял, что видел его раньше.
— Элизабет! — воскликнул он.
Это был Текс, хотя сегодня он выглядел скорее как Грэм.
Мама небрежно бросила упаковку натурального бекона в свою наполненную до краев тележку.
— Ах, привет, — проговорила она, не снизойдя до того, чтобы назвать его ковбойским именем, впрочем, она вообще не назвала его по имени. — Как ковбойские танцы?
Текс вздохнул, состроив гримасу и потерев свое бедро:
— У меня трещина в бедренной кости, Лиз. Заработал ее, когда исполнял «Притоп Харвуд». Пришлось оставить танцы на некоторое время.
Он смотрел на мою маму, как будто она была самой Джоан Коллинз в пору расцвета. И правда, она выглядела великолепно.
Не только из-за светлого парика и того, что она похудела. В маме теперь появилась какая-то уверенность, внутренняя сила, доставшаяся ей таким большим трудом. У нее появилась искра в глазах, которой никогда раньше не было. Меньше всего ее волновал тот факт, что этот старикашка бесцеремонно отвернулся от нее. Она сумела пережить гораздо большие удары, чем этот.
— В общем, ты чудесно выглядишь, — сказал Текс.
— Спасибо. — Мама вежливо улыбнулась, глядя на сморщенного старика, стоявшего перед ней, как будто не могла до конца вспомнить его. — Приятно было встретиться. — Мама повернулась к нам с Пэтом: — Поехали дальше, мальчики.
— Может… может быть, как-нибудь выпьем по чашечке чая? — промямлил Текс. — Если ты не очень занята?
Мама сделала вид, что не расслышала. Мы оставили Грэма с его одинокой банкой кошачьих консервов у витрины с замороженным мясом.
— Ты могла бы попить с ним как-нибудь чаю, — сказал я маме, хотя тайно гордился тем, как она поставила его на место. — Он безобидный старик.
— Но он не мой мужчина, Гарри. На некоторое время я забыла об этом. Потом вспомнила. Для меня существует только один мужчина. И так было всегда.
Мы с Пэтом едва поспевали за мамой, когда она, гордо подняв свою светлую голову, шла к кассе. Я подумал, что Долли Партон гордилась бы моей мамой. Никакая ужасная операция не имела значения, главное — то, что у нее внутри все сохранилось неприкосновенным.
Когда я выруливал с парковки, мы увидели Текса, стоявшего под моросящим дождем на автобусной остановке. Я и не подумал предложить подвезти его.
Мама посмотрела на него прямо, без всякого выражения. На какое-то мгновение мне показалось, что она собирается показать ему палец, а может, и два. Но я знал, что она слишком воспитанна, чтобы сделать это. Но если бы она и решилась на такой жест, смотря на Грэма, так-же-известного-как-Текс, то я уверен, что это был бы не средний палец.
Это был бы палец рядом с ним. Безымянный палец левой руки, на котором она не переставала носить обручальное кольцо.
У маминого дома нас уже ждали три женщины. Одной из них было лет сорок, а две другие были моложе меня. Они выглядели очень подавленно.
Мама ввела нас всех в дом. Ей не нужно было объяснять, что это те женщины, с которыми она беседовала о раке груди. Они пошли вместе с Пэтом в гостиную, а мы с мамой отправились на кухню, чтобы приготовить чай. Я услышал, как женщины рассмеялись чему-то, что сказал мой сын. Казалось, что они давно уже не смеялись.
— Ты видел ту молоденькую, Гарри? Ее прооперировали так же, как и меня. У нее отняли ту же грудь. Теперь она боится смотреть на себя. Боится зеркала. Этого нельзя допустить. Нельзя бояться смотреть на себя. Они могут поговорить со мной, потому что их семьи — муж, дочери, сыновья — не хотят правды, им нужно заверение. А меня заверять не надо, и передо мной не надо стесняться. Потому что я такая же, как и они. И к тому же, чего нам стыдиться? Не так все и плохо. Они робкие. Я старше их, Гарри, и сильнее, чем они, чем я сама была раньше. Все это сделало меня сильнее, придало мне какой-то невероятной энергии. Я больше ничего не боюсь на этом свете. Эти девушки — знаю, что надо называть их женщинами, но для меня они девушки, — они не могут рассказать своим мужьям о том, что они чувствуют. Ничего страшного. Простых отношений в жизни не бывает. Теперь я это понимаю. Я любила твоего отца больше жизни. Но вовсе не обязательно все выкладывать своему супругу. Ничего в этом плохого нет.
— Но, может быть, мужья поняли бы их? — спросил я. — Ведь нужно стараться понять друг друга, правда? И если они по-настояшему любят их, то они смогут их понять.
— Может быть. Если они действительно любят их, — сказала мама.
— Можно, я спрошу тебя кое о чем про вас с папой?
— Давай.
— Будут ли изменения? С годами? Мой брак станет другим по сравнению с тем, чем он был раньше?
Мама улыбнулась:
— Брак меняется все время, никогда не перестает изменяться. Когда ты молод, ты говоришь: Я люблю тебя, потому что ты мне нужен. Когда ты постарел, то говоришь уже: Ты мне нужен, потому что я люблю тебя. Очень большая разница. Я не говорю, что одно высказывание лучше другого, хотя второе длится дольше. Но никогда не перестаешь любить друг друга, Гарри. Если только это настоящее. — Она взяла меня за руку. — Послушай, Гарри. Поговори с ней, если ты этого хочешь. Поговори с Сид. Расскажи ей о том, что происходило. Поговори со своей женой, если ты думаешь, что это может помочь.
— Но я не знаю, смогу ли я. Видишь ли, я хочу, чтобы она гордилась мной, мама. Так, как ты гордилась отцом. — Я сжал ее руки. — И еще я хочу, чтобы ты тоже гордилась мной.
— Я уже горжусь тобой.
Пегги вернулась домой. На ее гипсе расписались все дети, лежавшие в ее палате. Должно было пройти еще долгое время, прежде чем она могла опять идти в школу. Но нога постепенно заживала, и в тот вечер мы с облегчением отправились спать. Пегги выздоравливала, и каким-то непонятным образом я выздоравливал тоже.
— Я должен тебе что-то сказать, Сид.
— Ты не обязан мне ничего говорить. Так же, как я ничего не должна тебе говорить о Люке. Потому что просто нечего рассказывать.
— Но я хочу что-то сказать. Про то, что произошло. Про то, как мы друг друга потеряли на какое-то время.
— Ты ничего не должен мне говорить. Просто закрой глаза.
Я почувствовал, как моя жена коснулась в темноте моей руки.
— Ты теперь дома, — прошептала она.
29
Жизнь берет в заложники всех, кого мы любим.
Поэтому моей жене было так трудно после того, как Пегги вернулась домой. Если твой ребенок хоть раз попал в больницу, ты уже никогда от этого не освободишься. Никогда не будет так, как было до того. Когда узнаешь, что значит любить больного ребенка, как тяжело находиться в больнице. Потому что никогда не избавиться от страха, что все это может повториться и в следующий раз будет гораздо хуже.
Дело было не только в ее дочери. По вечерам, довольно поздно, из Техаса звонили ее сестры, которых беспокоила их мать. Ее однажды нашли на стоянке машин в центре Хьюстона, где она бродила с ди-ви-ди-диском фильма «Унесенные ветром» в руках, без единого цента в кармане и не помня, каким образом она очутилась там. «Похоже на начало старческого маразма», — прокомментировала моя мама. И это было ужасно, потому что моей жене приходилось волноваться еще и об этом.

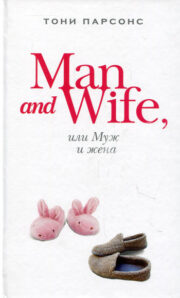
"Man and Wife, или Муж и жена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Man and Wife, или Муж и жена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Man and Wife, или Муж и жена" друзьям в соцсетях.