Придя домой, он подошел к книжной полке и достал старый список военных чинов. Он посмотрел в одной части, но она оказалась слишком недавней, посмотрел более старую и нашел имя «Сомарец» в одном из полков.
– Чертовски странный свет, – сказал он, достав придворный справочник и пытаясь разыскать родственников на эту же фамилию. Он нашел имя Чарльза и позвонил ему.
После некоторого промедления мужской голос подтвердил ему, что Чарльз Сомарец у телефона.
Доктор коротко объяснил, кто он, и сообщил подробности.
– Я сейчас же буду, – сказал сухой голос.
Доктор вернулся к больному, чтобы дождаться сэра Чарльза. Тони поместилась около отца и старалась придерживать его беспокойную руку. Он непрерывно бормотал что-то. Буйство прекратилось, и его мысль возвратилась к нормальной действительности.
Нет, быть может, разоблачений более ужасных в своей горечи, чем разоблачение человека в момент, когда он лишен сознания. Его мелочная низость, о которой никто в свете не знает, весь запутанный ход его мыслей, его самые сокровенные верования – все это выбрасывается вперемешку не думающим об осторожности ртом. Все мелкие, недостойные, глупые черты, которые нормальный человек прячет внутри себя и которые свойственны каждому человеку, выходят на свет напоследок.
Голос Сомареца шел за его мыслями. Он думал теперь о своем браке.
– Я смею думать, что любил ее, – говорил он медленно, запинаясь. – Во всяком случае, она поддерживала во мне эту мысль. – Он слабо улыбнулся. – Этого достаточно, и девяносто девять из ста попадаются таким же путем, бедняги. Поверьте мне, милый друг, – произнес он, обращаясь к доктору, – что брак был бы куда более привлекателен, если бы делать предложение было действительно предоставлено нам, как, – с усилием выговорил он, – это предполагается. Восьмидесяти процентам из нас, бедняг, не приходится говорить, уверяю вас, за нас говорят. – Он снова усмехнулся. – Последствия брака таковы же, как дешевого коньяка: в том и другом случаях ощущение тяжести, напрасной траты и унылое сожаление… Здесь очень жарко. Моя голова как бы охвачена железными обручами с гвоздями, торчащими внутрь вокруг всей головы. – Он снова начал стонать. Доктор сидел тихо на краю кровати. Ему ничего не оставалось делать. Вдруг оборванное дитя поднялось и подошло к нему.
– Почему вы ничего не делаете? – спросила девочка лихорадочно. Ее дикие глаза были полны слез, которые не изливались наружу. – Вы ведь доктор, почему же вы не прекращаете его боли?
Молодой Линдсэй попробовал объяснить ей, что здесь ничего нельзя сделать, но в разгар его объяснений вошел сэр Чарльз.
Прошло семь лет с тех пор, как он не видел брата.
Уинфорд остановил на нем свои мутные глаза.
– А, старая дубина, – сказал он. Затем наступило молчание.
Сэр Чарльз стоял у постели, глядя вниз. В этот момент какими-то странными и необъяснимыми путями мысли его унеслись на тридцать лет назад. Он видел себя на стадионе в Итоне, где Уинфорд получил удар мячом во время крикета. Тот открыл глаза, когда Чарльз опустился возле него, и сказал с той же улыбкой на бледном лице: «А, старая дубина». И теперь улыбка блуждала по одутловатому с красными жилками лицу лежавшего в постели человека. Да, когда-то он действительно был мальчиком, лежавшим на траве, на которого лился солнечный свет. «А, старая дубина». Этот голос из сердца одного человека, который умер и все же был жив, шел через все эти годы к сердцу другого человека, который когда-то любил его.
Чарльз внезапно опустился на колени на грязный пол.
– Уин, – сказал он тихим голосом, – это я, Чарльз, ты узнаешь меня? Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты болен, старина, дорогой мой, и ты уже у последней черты.
– Он хочет прочесть мне проповедь, – рассмеялся Уинфорд, – уверяю вас. Не расстраивайся, непогрешимейший из братьев. Я провел всю свою жизнь по теории этого удивительного философа Ларошфуко: «Каждый за себя, а Бог за всех». Боюсь, что я уже дошел до заключения.
Чарльз спрятал свое лицо.
Тони, стоя за ним, разрядила напряженное состояние своего мозга, присматриваясь к нему. Его вид доставлял ей странное ощущение удовольствия. Она не понимала сама почему. Она бы выразила эту мысль, если бы она возникла у нее, следующими словами: у него такой вид, как надо. Ей нравились его блестящие темные с сединой волосы, от которых даже в этой душной комнате исходил чистый, свежий запах. Его платье, так непривычно для нее опрятное, его блестящие ботинки доставляли ей удовольствие. С легкостью, свойственной ребенку, она за этим новым интересом забыла отца, но он вернул ее внимание к себе словами, которые он вслед за этим произнес:
– Тони! – резко позвал его голос. Она пробралась к нему, и он взял ее руку своей горячей и дрожащей рукой. – Разреши мне представить тебе твоего дядю, дочь моя, – произнес он шутливым тоном. – Фэйн, – мальчик медленно вошел с площадки лестницы, – твой дядя. Поздоровайтесь, дети мои, только ваши манеры несколько не на высоте.
– Бедные вы маленькие детки, – сказал Чарльз чуть слышно, но Уинфорд расслышал.
– Ваш богатый дядюшка жалеет вас, дети мои, – произнес он. – Как трогательно, как прекрасно! Я даже думаю, что его жалость побудит его позаботиться о вас, когда я, как он мило выражается, буду действительно у последней черты.
– Конечно, я позабочусь о детях, – глухо сказал Чарльз, и его мягкие светлые глаза немного мигнули, когда он произнес эти слова. Он никогда не понимал Уинфорда, даже в те давние времена, когда за смертью родителей он принадлежал ему полностью. Странная, непонятная причудливость, которая временами бывала злобной, то озадачивала его, то причиняла ему страдание. Эта жестокость заставляла его страдать и теперь.
Он сделал последнее усилие, чтобы дойти до сердца брата:
– Уин, ради бога, не издевайся в такой момент, как сейчас.
Уинфорд отвернул свое измученное лицо, которое неудержимо подергивалось. Секунду после этого страшные спазмы боли захватили его. Он начал дико бесноваться, с руганью, криками и плачем. Затем сразу успокоился. Он смотрел невидящими глазами на маленькую группу вокруг него и снова беспокойно заметался. Старая потребность проснулась в нем.
– Мне выпить хочется, – сказал он, глядя на них с тайной усмешкой.
Он ждал. Никто не отозвался. Дыхание заклокотало в его горле, смерть наложила на него свою руку.
Острое, злое разочарование выразилось на его лице.
– Ну, ладно, пейте тогда сами, – выговорил он и, отвернувшись, закрыл глаза.
Глава III
Существует много видов лицемерия, но самый низкий, – это вынужденное милосердие.
Для жителей бедных и отдаленных окраин похороны являются таким же развлечением, как выдающийся спектакль в опере или скачки дерби для обитателей аристократических кварталов.
Возможно, что неукротимая ненависть к приличиям зародилась у Тони в то апрельское утро, когда ей запретили присутствовать при погребении отца. Фэйну разрешили пойти. Он прятался за спиной дяди Чарльза и мимикой показывал Тони свое превосходство. После минутного молчания к ней вернулась способность говорить, и она единым духом выговорила все. Вся нечисть языка детей уличного дна хлынула неудержимым потоком на дядю и леди Сомарец. С дико разметавшимися волосами, со сверкающими и пронизывающими глазами выкрикнула она последние слова.
– Низкая, скверная девчонка! – крикнула ей леди Сомарец с невыразимым отвращением в голосе.
Сэр Чарльз отвернулся и смотрел в окно. Странно, на одно мгновение его нормальный и упорядоченный ум почти наслаждался отповедью девочки, так как происходящее вызывало в нем справедливое отвращение. Он устало вздохнул. Эти три дня, что дети провели у него, казались временем бесконечных неприятностей и неудовольствия.
Генриэтта истерически отказывалась оставить детей жить у себя дома. Они ей казались дикими зверями, причем звери выгодно отличались от них отсутствием дара речи и выработанных жизнью манер. Чарльз привез их домой в моторе утром следующего дня. До поздней ночи он доказывал и убеждал свою жену, и компромисс наконец был найден. Тони и Фэйн останутся у них до тех пор, пока не будет подыскана подходящая школа для каждого из них.
– Мальчик позже поступит в Итон, – коротко заявил Чарльз. – Ты должна помнить, что он будет моим наследником.
Это заявление вызвало поток слез, гневных слез обманутой в своих ожиданиях и огорченной женщины.
Однако из двух детей леди Сомарец скорее терпела Фэйна.
Его робкое спокойствие и приятная внешность ей даже несколько нравились. От него, по крайней мере, не будет неприятностей. Тони она возненавидела с первого же момента, как ребенок переступил порог ее дома.
Она поджидала их в вестибюле, когда подъехал мотор, и видела через открытое окно, как муж ее высадил оттуда ребенка. Какая-то дешевенькая черная одежда была куплена в это же утро, и Тони выглядела в ней ужасно уродливой. Платье было ей велико, и ее маленькое личико под огромной черной соломенной шляпой выглядело крохотным и испуганным. Неуклюжие сапоги совершенно скрывали ноги. Они поднимались выше щиколотки и придавали стройным ножкам ребенка бесформенный вид.
Она медленно вошла в гостиную, нервно цепляясь за рукав пальто дяди. Ее огромные темные глаза удивленно осматривали все кругом.
– Чертовски! – внезапно произнесла она своим резким детским голоском. Дворецкий скромно посмотрел в сторону хозяйки и, подмигнув лакею, исчез из комнаты.
– Что ребенок сказал? – спросила с раздражением леди Сомарец.
– Я сама могу ответить, – добровольно вызвалась Тони.
– В чем дело? – пробормотала раздраженно леди Сомарец. Тони выпустила дядин рукав и удивленно рассматривала гостиную.
Леди Сомарец следила за ней глазами.
– И ты хочешь, чтобы этого ребенка я признала своим? – спросила она мужа.

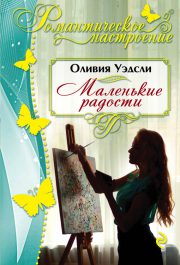
"Маленькие радости" отзывы
Отзывы читателей о книге "Маленькие радости". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Маленькие радости" друзьям в соцсетях.