Сейчас он желал только одного: на этом прекратить разговор. Рудольф еще не вступил в борьбу, но уже чувствовал себя усталым до изнеможения. Ему нужен краткий отдых, чтобы суметь подготовить тайный побег…
Но, затронув тему, император непременно развивал ее дальше. „Какая медлительность! – думал Рудольф. – Это свойственно старикам“. Он посмотрел на уши отца. Они и раньше казались ему огромными. Не увеличились ли они еще в размере? Уши были пергаментного цвета; казалось, что кровь не циркулирует в них. „Они мертвы, – говорил себе Рудольф, – быть может, они отвалятся“. Эта мысль показалась ему забавной.
Император умолк. Наступила тишина. Рудольф, считая аудиенцию законченной, поднялся.
Жестом отец удержал его.
– Я еще не кончил.
Он пощипывал усы – безошибочный признак нервности. „Ну вот мы и приехали, – заключил Рудольф, – сейчас начнется бой“. Улыбающееся лицо Марии предстало перед его взором, и он почувствовал прилив сил.
– Я никогда не беседовал с тобой о твоей личной жизни, – тон императора изменился, – и предпочел бы вовсе не говорить о ней. Но в настоящее время ситуация такова, что император, а не отец вынужден вмешаться. У тебя связь…
Рудольф не мог больше сдерживаться. Его терпение и так подверглось длительному испытанию. Он забыл об уважении, которое должен был выказывать отцу, и резко спросил:
– У меня одного?
Властно и сухо, но с прежним спокойствием император продолжил:
– Речь идет сейчас о тебе. Тебе не удалось сохранить свою связь в тайне. Ты был крайне неосторожен. Твоя жена в курсе дела, и ты знаешь, чем это нам грозит. Мы должны избежать скандала. Для людей нашего ранга он недопустим. А по тому, как развиваются события, можно ожидать взрыва… Он падет позором на наш дом. – Это слово, полное для него глубокого смысла, император произнес с особой силой. – Мы окружены врагами. Многие люди готовы воспользоваться всем, что может ослабить монархию. И ты собираешься скомпрометировать своей легкомысленностью дело, над которым мы трудимся столетиями?
Слишком много слов в этой краткой речи задело Рудольфа за живое. Можно ли было без гнева слышать, как термином „связь“ называется вечный союз между ним и Марией? Как он мог вынести слово „легкомысленность“ по отношению к чувствам, которые бросали вызов самой смерти? Этого было достаточно, чтобы вывести его из себя. Но он сдержался и сделал усилие, чтобы остаться спокойным.
Между тем император ждал ответа.
– Тебе нечего сказать по этому поводу?
– Чего вы хотите от меня?
– Я хочу, чтобы ты порвал с мадемуазель Ветцера.
Хотя Рудольф ожидал, что имя будет произнесено, он вздрогнул, услышав его. Ему показалось, что оно заполнило всю огромную немую комнату и даже мебель сдвинулась с места. Только император, пристально глядя на сына, оставался мрачным и бесстрастным. Задохнувшись от волнения, Рудольф не мог вымолвить ни слова, только отрицательно покачал головой.
– Мне кажется, ты меня не понял, – произнес император.
На этот раз Рудольф смог заговорить, сначала глухим, потом все более отчетливым голосом.
– Ваше требование не удивило меня. Когда вы прислали за мной, я уже знал, что вы собираетесь мне сказать. Порвав с…
Он мгновение колебался. Произносить имя Марии в присутствии отца казалось ему кощунством. Мадемуазель Ветцера? Кто такая мадемуазель Ветцера? Он взял себя в руки.
– Порвать? Это невозможно. Не рассчитывайте на это. Не думайте, что я говорю сейчас в раздражении. Вот уже не один месяц этот вопрос стоит передо мной. Так вот, я сделал открытие, да-да, важное открытие, что у меня только одна жизнь и что я хочу быть… мне почти стыдно вымолвить это слово, которое, может быть, никогда здесь не звучало… я хочу быть счастлив.
Он смолк, потому что ему показалось, что отец смотрит на него с любопытством. „Я, должно быть, выгляжу в его глазах весьма странным созданием“, – подумал Рудольф. Он вдруг почувствовал какую-то отрешенность и продолжал говорить свободно, тоном, в котором проскальзывало немножко дерзости.
– Я удивлен, что вы вынуждаете меня принимать определенное решение. Я предполагал, что при вашей мудрости и опыте вы позволите мне выбрать тот образ жизни, который примирил бы противоречивые обязательства – в отношении к вам и к самому себе. Разве такое невозможно?
Император отрицательно покачал головой. Он постукивал по столу кончиком ножа для резки бумаги, и только в этом проявлялась его нервозность. Настырный звук раздражал Рудольфа. Он почувствовал, что не выиграл и малой толики битвы, и вдруг решился перейти в атаку.
– Я не стремлюсь к власти, я задыхаюсь в ее отравленной атмосфере. Долгое время я думал, что могу оказаться полезным. Ваши советники, отец, избавили меня от иллюзий…
– Советников нет, – заметил император, – есть я.
– Все едино. Ни мои разнообразные занятия, ни работа, которую я выполняю, не избавили меня от чувства, что я бесполезен для империи. У меня чисто декоративная роль, и я не верю в то, что делаю. Вот почему я отказываюсь от власти. Насколько я знаю, нет закона, запрещающего так поступать.
Нож сухо ударил по столу.
– Что я слышу? – гневно произнес император. – Ты забыл, что должен выполнить миссию…
Рудольф не дал ему закончить:
– Кто-нибудь другой ее выполнит. Ведь не впервые в династии Габсбургов престол был бы унаследован побочной ветвью? Мой кузен Франц-Фердинанд займет мое место и справится наилучшим образом. Его идеи вполне безопасны, тогда как мои отдают крамолой. В правительственных кругах на меня смотрят с недоверием. Моему уходу будут только рады.
– Ты не уйдешь.
Тон был резким. Лицо Рудольфа побагровело. Но он сделал еще одно усилие, чтобы сдержаться.
– Я мог и не родиться и могу завтра умереть. Монархия не кончится вместе со мной.
Мои кузены составляют неисчерпаемый резерв…
– Достаточно софизмов, – прервал его император.
– Но это вовсе не софизмы, – бросил Рудольф. – Вы что же, не поняли, о чем мы спорим в течение часа? Я нашел наконец счастье и от него не откажусь. Если вы не позволите мне как официальному лицу воспользоваться им, я стану лицом частным.
– А на что ты будешь жить?
Вопрос прозвучал так неожиданно, что Рудольф осекся. Он в ярости смотрел на отца.
– Вы хотите сказать, что лишите меня всех материальных средств к существованию? Это в вашей власти, но это будет недостойный поступок.
– Замолчи! Я не собираюсь давать тебе отчет… Я поступлю, как сочту наиболее целесообразным.
– Будьте осторожны. Из тупика, в который вы меня загоняете, есть и иной выход.
За этой угрожающей фразой последовало долгое молчание. Франц Иосиф поставил локти на стол и охватил голову руками, как делал всякий раз, когда хотел поразмышлять.
Рудольф поднялся и, забыв об этикете, ходил взад-вперед по кабинету. Он сделал выбор и добьется свободы, а если нет… Мысль о возможном расставании с Марией ни разу не пришла ему в голову. Они останутся вместе, как бы ни сложилась их судьба. Их союз не будет разорван.
Рудольфа охватила ужасная усталость, он жаждал полного отрешения от происходящего вокруг него. Зачем он все еще находится в этой холодной комнате? Почему немедленно не уйдет? На что еще надеется? Что за абсурд продолжать сражаться, когда так легко достигнуть обители, где нет места борьбе, где царит вечный покой. Очарованная страна за границами земного мира представлялась ему такой безмятежной, такой притягательной, что ее образ он хранил до конца этой тягостной сцены.
Император наконец встал. Он подошел к сыну и, положив руку ему на плечо, повел к дивану.
– Присядем. Теперь с тобой говорит не император. Побеседуем как отец с сыном.
И жест, и тон императора удивили Рудольфа. Но он не позволил себе расслабиться. Отец, будучи старым опытным политиком, умевшим манипулировать людьми, приготовил, без сомнения, некую западню. Принц дал себе слово быть настороже и не рисковать. А на приглашение императора ответил с такой охотой, что тот не усомнился в его искренности.
– Ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия.
Император усадил Рудольфа рядом.
– Ты мой сын, единственный сын. Я люблю тебя и жалею, что у нас не было возможности поговорить друг с другом с открытым сердцем. Мое время не принадлежит мне, ты знаешь. – Он вздохнул. – Сколько трудов, сколько забот!
Он продолжал тем же доверительным тоном рассказывать о своей жизни, о том, как в восемнадцать лет его царствование началось среди урагана, свирепствовавшего над Европой и опрокидывавшего династии как карточные домики; как все эти годы его лампа первой загоралась в еще спящей ночным сном Вене; о том, что с тех пор четыре десятилетия прошли в тяжелом и неблагодарном труде и теперь подошла старость, а у него не было ни дня отдыха.
Он говорил мягко, не жалуясь, не стараясь возвеличить себя, с видимым безразличием. На фоне этой рисуемой крупными мазками картины у Рудольфа мало-помалу возникало новое представление об отце. „До какой степени он хитер, я и не представлял себе“, – размышлял он про себя. Ему пришло на память замечание современного писателя: „Все Габсбурги – прирожденные артисты“, – которое его озадачило. И вот теперь он открыл – невозможно не поверить, – что его отец был наделен талантом! В этот момент Рудольф восхищался им, но твердая решимость выстоять, с которой он начал беседу, оставалась непоколебимой.
Император продолжал рассуждать: – Мы представители многовековой династии, сын мой. В оппозиционных кругах, которые ты посещаешь… о, я не сержусь на тебя, – поспешил он добавить, – это входит в твою роль наследного принца… в этих кругах мою политику судят без снисхождения. Люди, не обладающие властью, думают лишь о настоящем. Что касается меня, то, будучи звеном в длинной цепи людей, выполнявших одну и ту же задачу, я вынужден думать о поколениях, которые придут за нами. Мои народы не всегда понимают причинность моих действий, но я завоевал их доверие, потому что они смутно чувствуют, что их император и король беззаветно работает для них… Если мы откажемся от нашей миссии, сын мой, если династия прекратится, ныне объединенные народы разделятся и начнут вести братоубийственные войны. На месте процветающей и славной империи, которую твои предки складывали по камушку, останется горстка государств, слабых, уязвимых, со страхом смотрящих в свое завтра, границам которых будут угрожать мощные соседние державы… Ты же понимаешь, Рудольф, что невозможно опровергнуть то, о чем я тебе говорю.

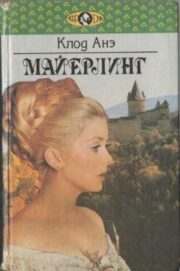
"Майерлинг" отзывы
Отзывы читателей о книге "Майерлинг". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Майерлинг" друзьям в соцсетях.