Тот соизволил взять его.
Он писал медленно, прекрасным, округлым почерком, представлявшим разительный контраст с неопрятными каракулями Роба.
— Я не связываю себя напарниками, — гласил его ответ.
Криста прочла это через плечо Роба. Ей с трудом верилось в заносчивость незнакомца. Она схватила грифель.
— А тебе знакомо слово «спасибо»? Его говорят обычно, если кто-то спас твою жизнь, — написала она сердито.
Он вырвал у нее грифель.
— Ты не спасла мою жизнь.
Он резко сунул ей грифель, меча молнии глазами.
— Ты что, такой большой дурак? — не сдавалась Криста.
Что-то щелкнуло внутри Питера Стайна. В течение последних двадцати лет в его жизни бывали порой ужасные моменты, но подобного он не мог и вспомнить. Всю свою жизнь он знал один факт, и этот факт проволакивал его через тяжелые времена и саботировал все хорошие. Питер Стайн знал, что он блестящий человек. Не просто умный. Не просто талантливый. Он гениальный. Так сказал «Пулитцер». Это подтверждали хором критики. Читатели, миллионы читателей подхватывали припев. Во время публичных выступлений толпы кричали об этом. И вот сейчас, на дне океана, женщина с телом, более красивым, чем у русалки Даррил Ханна, спрашивает его, не дурак ли он.
Он в ужасе уставился на грифельную надпись. Потом поднял глаза на свою спасительницу в гидрокостюме. Она глядела на него. Ждала от него ответа. То, что она хотела от него, были слова. Но он не мог отыскать слов. Они затерялись где-то в сумятице, возникшей в его блестящем мозгу. Это было дистилляцией ужаса за все годы, но в чем-то и похуже, потому что из всех людей эта девушка имела право так писать. Внутри него бурлила паника, сильней, чем в тот момент, когда он подумал, что умирает. На дне океана звезда американской литературы испытал творческую импотенцию.
И вот, наконец, он почувствовал благодатное движение в своих пальцах. Это не было литературой, за которую дают Нобелевскую премию. И едва ли материал, достойный «Пулитцера». Только самый фанатичный приверженец минимализма мог бы усмотреть в этом «большую литературу». Однако Питер Стайн испытал адское облегчение, когда смог нацарапать:
— Спасибо.
И теперь в его сознании осталось только одно слово. Бежать. Он согнул оба колена и оттолкнулся от дна, словно прыгнул на луну. На языке подводников это известно, как подъем в чрезвычайной ситуации, и Питер Стайн вспомнил, что нужно сделать странную вещь, которую требовала инструкция по подводному спорту. Когда ты поднимался на поверхность, давление воды уменьшалось, и воздух в твоих легких расширялся. И если не избавиться при подъеме от воздуха, ты рискуешь подняться с разорванными легкими. Выход состоял в выдохе во время подъема, а начинающих заставляли громко кричать под водой, чтобы их инструкторы могли слышать, что они выполняют этот маневр безопасности. И это совершенно подходило к его настроению.
Когда он стрелой помчался наверх, Криста совершенно отчетливо услышала необычайный шум, который он издал.
Наконец, Питер Стайн нашел превосходное выражение для своего унизительного испытания.
— Аааааааааааааа, — завизжал он.
Криста наблюдала, как он удаляется, ошарашенная интенсивностью их краткой встречи.
Роб яростно царапал на доске.
«Что за задница!»
— Ммммммммм, — промычала Криста, кивая головой. Однако, как ни странно, в душе она не могла согласиться с этим. И действительно, ее сердце вело себя необычно. Оно учащенно колотилось. Оно прыгало по всей грудной клетке. Поглядев вниз на доску, она не стала читать нелестный диагноз Роба по поводу характера незнакомца. Вместо этого она сконцентрировала свое внимание на единственном слове — «спасибо», том самом, которое ему было так трудно написать. Она уже позабыла про его безответственное поведение. Ей помнились лишь обжигающий огонь его глаз, его раненое плечо, отчаяние его торопливого бегства. Кто это был? Кем он мог быть? Из какого-такого персонального ада собрал он свой прощальный вопль обреченного? Ей хотелось знать. Но она никогда этого не узнает. Он останется человеком, попавшим на дне океана в беду. Она спасла его. Она никогда больше его не увидит.
7
— Пышка, я не хочу быть грубой… и обычно нет ничего, чем бы я наслаждалась сильнее… но черт возьми, где же Брюс? Я плачу ему пятьдесят больших кусков. За такие баксы я не хочу, чтобы мне всучили какой-то хлам.
Пышке Келлог не понравилось, что ее назвали хламом, однако она изобразила кислую улыбку и постаралась сделать вид, что ей это безразлично.
— О, он появится позже, Мери. Без паники. Ты ведь знаешь Брюса. В конце концов все оказывается на своих местах. Он любит наращивать уровень беспокойства. Это способствует тому, чтобы церемония получилась еще удачней.
Губа у Мери Макгрегор Уитни скривилась. Она оглядела уставленную цветами террасу, словно ожидая увидеть стоящий где-то среди них гроб.
— Пышка, давай объяснимся начистоту. Я не паникую. Я вообще никогда не паникую, дорогая моя. И мне вообще насрать на весь прием. Все мои приемы бывают сущим бедствием. Я их устраиваю, чтобы сквитаться со своими «друзьями». Что меня действительно заботит, моя сладкая, это цена денег. Я заплатила за задницу Брюса Сатка и теперь хочу видеть, как его малиновые, тугие ягодицы маячат передо мной, о'кей?
Она засмеялась, чтобы подчеркнуть, что не шутит.
— Я приволоку его, — сказала Пышка. Она мысленно выругалась. Боже, как ей не нравилось быть бедной родственницей. Зарабатывать на хлеб насущный таким унизительным способом.
Она схватила сотовый телефон, словно это была какая-то гадость, принесенная кошкой. Он упрощал жизнь, но совершенно не подходил к стилю Палм-Бич — вместе с факсами, «Феррари» и блудом.
Рука Мэри Уитни метнулась, чтобы опередить ее.
— Позже, Пышка. Прежде всего я хочу осмотреть район бедствия. И еще хочу увидеть план, как рассаживать гостей. Это всегда забавно. Ты не забудешь посадить Патриджей рядом с теми кузинами Филлипс, чей сын бросил их дочь ради танцовщицы зальзы из Майами? У них найдется о чем потолковать во время ламбады.
Она расхохоталась горловым смехом, отбросив назад свою длинную шею и предоставив строгой геометрии своей стрижки в стиле шестидесятых взлететь в воздух при порыве бриза с океана. Она чувствовала себя хорошо. Бизнес бурлил, а бизнес задавал ритм ее сердцебиению. Лучшие результаты квартала прибыли в это утро от бухгалтеров из Нью-Йорка. Предприятия Уитни на тридцать процентов опережали показатели прошлого года, несмотря на общий спад экономики. Если такой процент продержится год, то на торгах она получит лишний миллиард баксов. А если оценивать все ее дело по среднегодовому приросту, помноженному на десять, это значит, что ее дело стоит десять миллиардов долларов. Хотя она вряд ли когда-либо вознамерится прибегнуть к торгам. Уитни никогда не продавали вещи, составляющие их собственность. Это считалось верхом безвкусицы.
— Ну, а что там за история с розами?
— Сто двадцать длинноствольных роз для каждого стола на восемь персон. Пятьдесят столов. То есть приблизительно семь тысяч с запасными. Они прилетят в Уэст-Палм из Нью-Йорка завтра после полудня в ледяном отсеке. Бутоны раскроются во время приема.
— А на следующий день они отправятся в контейнер для мусора, — резюмировала Мери Уитни. Пышка могла поклясться, что в ее голосе прозвучало наслаждение от грандиозности расходов. И не первый раз она с изумлением подумала, какая странная и жутковатая мутация в генах Уитни позволяла ей наслаждаться выбрасыванием на ветер десяти тысяч баксов на кроваво-алые розы. Это так напоминало нуворишей. Она подавила дрожь отвращения. Если лилии, орхидеи и гардении включить в этот счет, то денег, потраченных на цветы для этого единственного вечера, хватило бы на то, чтобы ее брат закончил колледж — если бы этот паршивец имел энергию или склонность туда пойти.
Мери Уитни прошлась по диагонали террасы к балкону с колоннами. Она высунулась за перила — худые локти оперлись о выцветший камень — и поглядела на океан. Он был плоским, его цвет напоминал аквамарин Карибского моря. Внизу, на траве, мужчины драпировали тканью черные металлические каркасы: «Ночной клуб» на берегу приобретал очертания. Она глядела то вправо, то влево, зондируя безупречные десять акров своих владений на океанском берегу, старый мизнеровский дом, величественно восседавший на клочке земли стоимостью в мультимиллион долларов. Она вздохнула. Деньги не могли купить ей счастье, но уж точно позволяли распространять вокруг немного несчастья. Она повернулась к Пышке.
— Придет хоть кто-нибудь мало-мальски занятный? — спросила она с раздражением.
— Я полагаю, что ты хочешь сказать «знаменитый»? — уточнила Пышка с саркастической улыбкой. Как социально равной Уитни, хотя и уступающей по богатству, ей позволялось делать подобные вылазки против плутократии.
— Не преувеличивай их славу, дорогая. Это просто еще один из способов набирать очки. Славу нужно заработать при помощи одной маленькой штучки, именуемой талантом. Разумеется, я представляю себе, что тут, на земле трастовых фондов, это очень неприличное слово.
Пышка рассмеялась, довольная тем, что ей предоставилась возможность царапнуть поверхность шкуры Уитни.
— Ну, если не считать нью-йоркских «блестящих» персон, которые не покидают тебя, я боюсь, что список окажется довольно скуден на «домашние имена», если ты не включишь сюда потомков тех героев, которые ввели в нашу жизнь такие понятия, как «листерин», «клинекс» и «корнфлекс». Теперь, кто же забавный? Боже, найдется ли хотя один? О, я едва не забыла. Ты помнишь Кристу Кенвуд? Она сейчас здесь с одним жутковатым фотографом, на съемках. Я встретила ее на пляже и пригласила. Надеюсь, что я не ошиблась. Она занятна, а также знаменита, а ты ведь предоставила мне карт-бланш в отношении уроженцев Палм-Бич. Она одна из них.

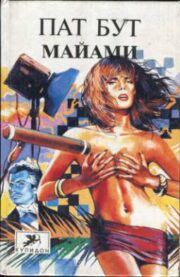
"Майами" отзывы
Отзывы читателей о книге "Майами". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Майами" друзьям в соцсетях.