— Ты уже должен не хуже меня знать Париж. Ты ведь говоришь, что никуда не уезжал, а я здесь с тех пор не была.
— Вообще-то я города совсем не знаю, — признался Сэм. — До нашего знакомства я посмотрел основные достопримечательности, и мне, в общем-то, хватило. После твоего исчезновения я наконец выучил французский, потом, когда поверил, что у меня завелись реальные деньги, я перебрался в квартиру побольше, сразу за углом. Но работаю я по-прежнему в старой студии — я вообще домосед, за исключением случаев, когда мне приходится ехать с очередной выставкой за рубеж.
— Ты как старый парижанин, — рассмеялась Билли. — Это они живут и умирают в своем квартале, не удосужившись за всю жизнь перейти на другой берег Сены хотя бы из любопытства.
— Левый берег — не моя стихия. То, что я тебя сегодня встретил, — это редкая удача… Если бы я не пошел в мастерскую… Навряд ли ты бы собралась навестить меня в студии…
— Уж это точно. И все же никогда нельзя исключить случайности. В Голливуде, кстати, сценаристам позволено по два случайных совпадения на сценарий — иначе это чревато осложнениями.
— Нам лучше поторопиться, — сказал Сэм, — иначе у нас точно будут осложнения. Кажется, сторож уже всех гонит — скоро будут запирать ворота.
— Ничто меня так не бесит, как эта их привычка запирать парки при наступлении сумерек, — возмутилась Билли.
— Все почему-то считают французов романтиками, а они на самом деле настоящие прагматики.
— По правде говоря, они самый рациональный народ в Европе.
— Если не считать швейцарцев.
— Да, если не считать швейцарцев, — согласилась Билли. — У тебя что, была выставка в Женеве?
— В Цюрихе, — заулыбался он.
— Все продал?
— Все.
— Чудесно.
— Спасибо. Так куда мы идем?
— Давай пойдем вот в этом направлении, — беспечным тоном произнесла Билли. — Тут где-то должно быть кафе.
Она прекрасно отдавала себе отчет, куда его ведет. Она должна показать Сэму свой дом. Их отношения нельзя считать завершенными, пока он не увидит дом, в котором Билли планировала их совместную жизнь, и конюшню, превращенную в студию, о которой скульптор может только мечтать. Вот когда он поймет, насколько сильно в ней ошибался. Словами этого не объяснишь.
— Что это значит? — удивился Сэм, видя, как Билли отпирает ключом высокие кованые ворота в увитой плющом стене, выходящей на тротуар улицы Вано.
— Маленький каприз. Добрый вечер, мадам Мари-Жанна.
— Добрый вечер, мадам, добрый вечер, мсье.
— Добрый вечер, мадам, — ответил Сэм.
— Мадам Мари-Жанна, не могли бы вы одолжить мне бутылку красного вина и два бокала?
— Конечно, мадам, уже несу.
— Благодарю вас. Оставьте их в зимнем саду.
— Все будет исполнено сию же минуту, мадам.
Билли и Сэм зашагали по дорожке через двор, едва сдерживая смех, вызванный церемонным поведением француженки.
— Тебе еще повезло, что я тебя не представила, — фыркнула Билли. — А то пришлось бы выслушивать еще кучу этих «мадам» и «мсье».
— А кто она?
— Жена привратника. Погоди минутку, я хочу показать тебе кое-что, пока мы не вошли в дом.
Билли направилась к одному из флигелей, ключом отперла висячий замок на массивных дверях, над которыми красовался барельеф с изображением великолепного гарцующего коня.
— Здесь когда-то была конюшня, — объяснила она и включила свет: в свое время она специально распорядилась, чтобы сюда провели освещение, и теперь большие галогеновые лампы ярко освещали каждый фут помещения из конца в конец.
— Похоже на гигантский склад. — Сэм щурился от яркого света. — А когда это все было построено?
— Примерно в 1720 — 1730 году.
— Потрясающе… — пробормотал Сэм и поднял глаза к потолку.
— Согласна, — сказала Билли, решив пока не говорить ему, зачем она распорядилась установить здесь осветительных приборов на такую сумму, что ее хватило бы для освещения больничной операционной, как проинформировал ее архитектор. — Пошли выпьем вина.
Сэм и Билли сидели на встроенной в оконный проем банкетке в зимнем саду и наливали себе уже из второй бутылки вина, которое мадам Мари-Жанна на подносе поставила прямо на пол. Это было бейшвельское бордо 1971 года, которое она хранила для особых случаев.
— Никогда не видел дома с таким интерьером, — сказал Сэм. — Снаружи и не скажешь, что он такой уютный, даже и без мебели. Теперь я понимаю, почему тебе захотелось его купить.
— Видишь ту сосну сразу за садом? — спросила Билли. — Самую высокую.
— Да, а что?
— На ней мы должны были развесить рождественские гирлянды. В Рождество восемьдесят первого года.
— А-а.
«О господи, Ханни, ну что ты со мной делаешь? Не заставляй называть тебя Билли, — мысленно запротестовал он. — Разве мало того, что ты привела меня сюда, в этот пустой дом, посадила рядом с собой и угощаешь вином; ты так близко, что я прекрасно вижу соски, выпирающие под свитером, а я прекрасно помню, как выглядит твоя грудь, когда ты сверху нависаешь надо мной. Я пытался захватить губами эти два розовых соска, чего мне никогда не удавалось сделать, так упруги и роскошны были твои груди: их никогда нельзя было свести вместе. Как мне нравилось, когда ты была сверху, а я лежал на животе, и ты изобретала все новые и новые забавы, водила языком мне по моим ногам — по ступням, по икрам вверх-вниз, приводя меня в такое возбуждение, что мне казалось, я схожу с ума, что мои соки извергнутся прямо на постель! А ты не произносила ни слова и только продолжала свои ласки, а потом — как раз вовремя — успевала шепнуть „повернись“, рукой вводила моего парня себе в лоно, и извержение происходило на полпути, я даже не успевал добраться до бархатных глубин… помнишь, как это было, Ханни?»
— Все деревья в саду вечнозеленые, — продолжала Билли. — Это была дань Калифорнии — я хотела иметь сад, который будет зеленым круглый год.
— Неплохо придумано.
«О Ханни, — мысленно воскликнул Сэм, — какое мне дело до деревьев в твоем саду, когда я думаю только о наших ночах у меня в студии! Иногда ты притворялась, что спишь, продолжала лежать на боку ко мне спиной, слегка расставив ноги, так что я мог проскользнуть в тебя сзади очень медленно и осторожно, как будто боялся тебя разбудить, и делал вид, что не замечаю, как учащается твое дыхание. Я продолжал двигаться так нежно, как только мог, продвигаясь с каждым разом не более чем на дюйм, пока не достигал самых глубин, и тогда я знал, что пора обхватить тебя за бедро и двигаться в ускоренном темпе, все быстрей и быстрей, пока ты не кончала… Как это было прекрасно… и ни один из нас не произносил ни слова… ни слова… даже наутро. Мы предпочитали делать вид, что ничего не было. Ты и сейчас делаешь вид, Ханни, притворяешься, будто не видишь, что я сижу рядом в невероятном возбуждении и только и жду, что ты сделаешь первый шаг. Вот что ты со мной делаешь… Я тебя слишком хорошо знаю, дорогая, чтобы этого не понимать».
— Билли, а ты замужем? — вдруг спросил Сэм.
— Да.
— Удачно?
— Я так считала, — коротко ответила она.
— Ты так считала? Как это понимать?
— Сейчас я ни в чем не уверена.
«Что я несу, — подумала она, — это же почти что приглашение». «Не уверена»? Если не уверена, то как ты оказалась здесь наедине с тем, кто некогда был твоим возлюбленным? Ты должна бы скорее быть в каком-нибудь уютном маленьком бистро за хорошим обедом, как ты делала всю эту неделю в ожидании, что наступит озарение и тебе откроется будущее, но уж никак не сидеть в полумраке наедине с Сэмом Джеймисоном. «Что бы сказал Спайдер, если бы видел меня сейчас? Л что бы он сделал, если бы знал, что я нахожусь в этом доме, о существовании которого когда-то мельком ему обмолвилась… или нет? В любом случае, адреса он не знает. И что бы он сделал, если бы я решила сейчас подняться с Сэмом на второй этаж и показать ему жилые комнаты? Но ведь я еще этого не сделала. Ах, если бы Сэм только знал, что я привела его в дом, где есть только одна кровать — моя кровать… Кто здесь кого морочит, в конце концов? Да я готова на коленях просить его, я готова наброситься на него, расстегнуть ему „молнию“ и… О господи, я хочу ощущать вкус его губ, я хочу чувствовать в себе его член, я, должно быть, сошла с ума, что позволила себе остаться с ним наедине; я готова содрать с себя одежду прямо здесь, в эту самую минуту; готова отдаться его прикосновениям, его рту, открыться для него настежь, как когда-то, впустить его в себя… он так этого ждет… неужели он думает, что я этого не вижу? Ведь должен же он понимать, что здесь не так темно, чтобы я не видела, как все вздыбилось у него в штанах, как он принял боевую готовность, как он жаждет, как сходит с ума от вожделения; но он не сдвинется с места, пока я ему не позволю, пока не подам ему знак, крошечный, едва уловимый сигнал, которого будет вполне достаточно; и тогда будущее прояснится, я перестану чувствовать себя несчастной и кинусь вперед без оглядки. Без оглядки! Да, этот парень все еще меня любит, это ясно без слов, по его румянцу, по блеску глаз; я слишком хорошо его знаю, чтобы в этом сомневаться…»
— И поэтому ты в Париже одна? — спросил Сэм. — Потому что ни в чем не уверена?
— Да.
— Что-то для тебя прояснилось?
— Пока нет. Не могу об этом думать. Во всяком случае, спокойно и взвешенно.
— Зачем ты меня сюда привела?
— Чтобы доказать, что то, о чем я тебе писала, была чистая правда, что я действительно собиралась тебе во всем признаться сразу после вернисажа и готовила для нас этот дом. Я хотела показать тебе, что отказалась выйти за тебя замуж не потому, что не верила в тебя. А в конюшнях собиралась устроить для тебя студию…
— Но там нет дневного света!
— Управление по архитектуре не разрешает никаких перестроек в зданиях, если они внесены в списки исторических памятников, как этот дом. Даже если это частная собственность. Вот почему мне пришлось проводить туда освещение.

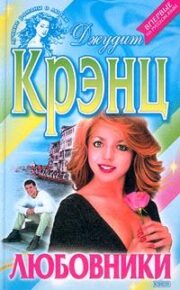
"Любовники" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовники". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовники" друзьям в соцсетях.