Мы сразу разговорились, как будто подготовились заранее. Я неотрывно смотрел на нее, изучал, пытался решить, стоит ли влюбиться в нее, хотя уже начал влюбляться. Она говорила об учителях, об учебной программе, спрашивала мое мнение. У нее были определенные, твердые взгляды, очень критические. Ей не нравились формы обучения, изучаемый материал и самое главное — учителя. Я удивился: ведь в классе она была тихой и очень дисциплинированной и учителя любили ее. Я и не предполагал, что она втайне презирает их. Я рассказал ей, что ухожу из школы, что буду работать с отцом в гараже. Она отнеслась к этому с восторгом, позавидовала, что я вступаю в жизнь именно теперь, когда происходят большие перемены, когда с окончанием войны назревает настоящая революция. Будь ее воля, она бы тоже оставила школу.
В ней было что-то противоречивое, эти ее путаные, но смелые идеи, что-то чуждое мне, интеллигентность на грани болтливости, но мне было довольно интересно. Мы говорили и говорили и не заметили, что наполовину уже отдежурили, как вдруг на нас набросился учитель физкультуры, ответственный за охрану, вырвал зажженный фонарь у нее из рук и швырнул в траву, а нам приказал замолчать, лечь на землю подальше друг от друга и тихо следить за врагом.
Когда он исчез, а мы еще лежали на земле, злясь и в то же время хихикая, я сказал ей: «Когда я разбудил тебя, ты видела сон». И она ужасно удивилась: «Откуда ты знаешь?» — и не отставала от меня, допытываясь, как это я в темноте палатки сумел догадаться, что она видит сон, а потом рассказала мне его. Что-то о ее отце.
Дежурство кончилось, мы вернулись каждый в свою палатку. Я взял ее фонарь, чтобы починить. Назавтра во время учений и экскурсий мы не обменялись ни словом, так что у меня было время решить, влюбиться мне в нее или не стоит. После обеда я отдал ей починенный фонарь. Она благодарит меня, слегка дотрагивается до моей руки, хочет что-то сказать, но я, смешавшись, ускользаю, еще колеблюсь, боюсь унизить себя.
К вечеру пропал Ицхак, сирота. Он исчез, видимо, еще в полдень, но лишь вечером его отсутствие заметили. Все учения и мероприятия были отменены, и мы все, даже ученики других школ, пошли искать его. Идем цепью по горам, осматриваем каждый куст, каждую расселину, а самое главное — кричим не переставая, зовем его по имени. Поисками руководит директор, кричит, сердится, идет между нами бледный, подавленный. А она вдруг оказалась в центре внимания. Все обвиняли ее, смотрели на нее с любопытством, даже ученики других школ приходили на нее взглянуть. Все уже знали причину его исчезновения. Ее снова и снова вызывали к директору, чтобы выяснить о нем всякие подробности. Директор стоял и кричал на нее, словно она виновата в том, что не ответила ему взаимностью.
Утром прибыли два английских полицейских с собаками, очень довольные, рассматривают лагерь, пользуются возможностью поискать оружие. Через несколько минут беглеца нашли. Он прятался в маленькой пещере в ста метрах от лагеря.
Собака заставила его вылезти оттуда. Он вышел, горько плача, причитая со своим галутским акцентом:[7] «Не убивайте меня!» Упал на колени перед директором и перед ней. Его невозможно было даже ругать, таким он был жалким. Ей приказали не оставлять его, утешать; я не мог подойти к ней до самого нашего отъезда из лагеря.
Но, очевидно, я заразился его безнадежной любовью. В каникулы все время думал о ней, по вечерам бродил около ее дома, искал встречи. Я уже начал работать в гараже полный день и в школу на следующий учебный год не записался. Отец становился все слабее, ему уже было не под силу отвернуть некоторые болты, большую часть работы приходилось делать мне. Он усаживался у машины на стул и объяснял мне, что надо делать. Иногда, если выдавалось свободное время, я подходил к школе как был — в грязной рабочей одежде. Сидел на ограде и ждал перемены, чтобы увидеть друзей, пытался сохранить с ними связь. Ищу ее, иногда вижу ее урывками, но не успеваю как следует поговорить, тем более что этот Ицхак все еще ходит за нею по пятам и ей приходится остерегаться. Очевидно, они все-таки дружили. Постепенно я перестал приходить в школу, все связи оборвались, работа в гараже занимала все больше и больше времени. Прежние друзья со своими книгами, тетрадями и вечными разговорами об учителях вдруг стали казаться мне какими-то детьми.
Посреди десятого класса она исчезла. Ее семья переехала в Тель-Авив. Иногда в газетах упоминалось имя ее отца как одного из крупных закулисных деятелей, имевшего отношение к тайной службе безопасности. За несколько месяцев до возникновения государства в стране усилились волнения. По вечерам я пытался учиться, хотел подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости, но оставил это дело.
В начале Войны за независимость отец умер, а меня мобилизовали, и я работал в мастерской — подготавливал броневики к войне; ее я не видел несколько лет.
Только в конце войны мы увиделись снова — на встрече старших классов нашей школы. Так уж вышло, что пригласили не только тех, кто отучился в ней до конца: многие, вроде меня, оставили школу, пошли учиться специальности, были взяты в армию и в Пальмах,[8] некоторые погибли во время войны.
Встреча должна была стать знаменательным событием. Торжественное заседание, банкет, речи, пение у костра до рассвета. Сначала я не узнал девушку, которая подошла ко мне. За те годы, что мы не виделись, я сильно вытянулся, и она показалась мне вдруг маленькой.
— Как поживает революция? — сказал я, улыбнувшись.
Она, кажется, удивилась. Потом улыбнулась.
— Еще настанет… еще настанет…
Весь вечер она не отходила от меня. Мы оба чувствовали себя там чужими. Оба оставили эту школу еще в десятом классе. Со многими даже не были знакомы. А многие уже обзавелись семьями и привели с собой жен и мужей. Мы сидели сбоку в одном из последних рядов и слушали длинные речи. Она все время шептала мне на ухо, рассказывала о себе, об учебе в педучилище. Когда мы встали, чтобы почтить память погибших, и слушали, опустив голову, длинный список имен, среди которых был и Ицхак, я посмотрел на нее. Она стояла с опущенной головой, ничем себя не выдавая. Я не знал, как держаться с нею. Она не оставляла меня весь вечер, переходила со мной с места на место, усаживалась рядом, старалась не вступать в длинные беседы с другими. Имя ее отца часто повторялось в то время в новостях в связи с каким-то темным делом, с какой-то непродуманной и жестокой акцией. Он был отстранен от должности, требовали предать его суду, но в конце концов оставили в покое, учтя прежние его заслуги.
Может быть, в этом крылась причина ее необщительности — только для меня почему-то было сделано исключение, а в самый разгар торжества она и вовсе решила уйти и вернуться домой в Тель-Авив. Она попросила меня проводить ее на автобусную остановку. Я подвез ее на своей машине, старом отцовском «моррисе», без заднего сиденья, загроможденном всякими инструментами, запасными частями моторов, канистрами из-под бензина. Мы стояли и ждали автобуса на пустынной остановке в Нижнем городе. А она все придвигается ко мне, говорит о себе, спрашивает о моих делах. Она помнит, как мы вместе дежурили и что я ей тогда говорил. А автобуса все нет. Я решил отвезти ее в Тель-Авив на своей машине. Мы приехали туда после полуночи. Маленький скромный дом, окруженный запущенным садом, на юге Тель-Авива. Она настояла, чтобы я остался у них ночевать. Я согласился, мне было любопытно увидеть ее отца. Внутри дом выглядел мрачным, во всех углах навалены огромные груды газет. Ее отец вышел к нам. Волосатый человек, кажется более старым и маленьким, чем на газетных снимках. Тяжелое лицо. Она сказала ему что-то обо мне, он рассеянно кивнул и исчез в одной из комнат. Я думал, что мы еще посидим и поговорим, но она постелила мне на диване в гостиной, дала чистую отцовскую пижаму и отправила спать. А мне все не спалось, я был взбудоражен резким переходом от праздничного шума, речей, встреч со старыми друзьями к этому мрачному тихому дому между остатками апельсиновых плантаций на юге Тель-Авива. Но в конце концов я уснул. В три часа ночи я услышал, что кто-то бродит у моей постели. Это был ее отец в штанах хаки и рваной пижамной рубашке. Наклоняется над приемником, крутит ручку, переходит со станции на станцию, передачи Би-Би-Си, передачи на русском, венгерском, румынском, на языках, которые я и вовсе не мог определить. Ловит станции просыпающегося Востока, послушает немного и переходит на другую станцию, не открывая глаз, — наверно, привычка со времени, когда он был начальником информационной службы, не может от нее избавиться. Или ищет что-то касающееся его, какие-либо сообщения о его деле из чужих и далеких источников. На меня он не обращал никакого внимания, словно меня не существовало. Его совсем не трогало, что он заставил меня встать с постели, а я, совершенно разбитый, сижу подле него, слушаю вместе с ним.
В конце концов он выключил приемник. Я посмотрел на его сумрачное, строгое лицо.
— Ты тоже учишься в педучилище?
Я рассказал ему, чем занимаюсь.
— Как фамилия твоего отца?
Я назвал.
Он сейчас же сказал, что отец умер полгода тому назад, хотя мы и не помещали объявления в газетах о его смерти из-за того, что шла война. И сразу же добавил несколько сухих фактов об отце, совершенно точных.
— Вы знали его? — удивился я.
Нет, он никогда не видел его, но знал о нем все, как будто его личное дело лежало перед ним.
Но вот наконец он оставил меня в покое…
А я уже не мог уснуть. В пять утра встал, сложил простыни; нужно было вернуться в Хайфу, чтобы в семь открыть гараж. Только несколько месяцев тому назад я возобновил работу, всю войну гараж был закрыт. Конкуренция в то время была жестокой. Приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не потерять клиента.
Я вышел из дома. Летнее сероватое утро. Дымка. Я побродил по запущенному саду, голодный, всклокоченный из-за того, что неудобно было спать, небритый. Разносчики газет один за другим пробегают по улице и бросают на порог дома все газеты на разных языках, какие только выходят в государстве. Я хотел попрощаться с ней, прежде чем уехать, но не знал, где ее комната. Потом тихонько постучал в одно из окон.

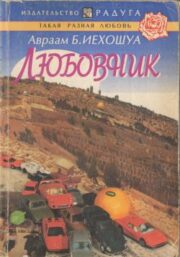
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.