Шлагбаумы немедленно поднимались перед нами, армейские полицейские даже не смотрели на нас, атакуемые огромным количеством машин, направлявшихся нам навстречу. Людям просто не терпелось попасть на войну, прорваться на западный берег канала.
В Рафидим я сошел. Даже спасибо не успел сказать. И снова вокруг эта ужасная суета. Даже, кажется, усиливается. Мечутся люди, во всех направлениях мчатся машины. А я чувствую себя легко в своей новой одежде, почти порхаю, всем своим существом ощущаю свободу. Брожу по лагерю, ищу северный выход. И тут замечаю, что люди оборачиваются на меня, останавливают на мне свой взгляд. Я обращаю на себя внимание, даже несмотря на дикую суету вокруг. Очевидно, в моем облике что-то не соответствует моему одеянию, может быть, шляпа на голове сидит не так, как надо. Я все больше опасаюсь, как бы не попасться. Хожу по боковым тропинкам, стараюсь сделаться незаметным, пробираюсь между строениями, укрытиями для танков. И вдруг в одном из закоулков лагеря прямо передо мной, как в кошмарном сне, предстал этот высокий лысый офицер, весь загорелый, до красноты, все с тем же наглым, пустым взглядом. Я чуть не упал, увидев его. Но он прошел мимо, не узнав меня. Шествует своей размеренной походкой, ужасно действующей на нервы.
Наверно, меня все-таки действительно нельзя узнать, во мне, очевидно, произошла существенная перемена, которую я и сам еще не осознал. Я спрятался за стеной, пораженный, весь дрожа. Вижу, как он идет к одному из навесов. Что-то голубое поблескивает там. Бабушкина машина. Я чуть было не забыл о ней.
И вдруг я решил увести и ее. Почему бы и нет? Подождать, когда стемнеет, и взять ее с собой. Я осмотрелся, стараясь запомнить место, и пошел искать синагогу, чтобы спрятаться там до вечера.
Синагога была заброшенная и грязная. Здесь, наверное, ночевала большая часть во время большого переполоха, на полу валялись гильзы от патронов. Вместилище Торы было закрыто на ключ, но несколько молитвенников лежало в беспорядке на полках, а в маленьком боковом шкафчике я обнаружил бутылку вина для благословений.
Весь день просидел я там в углу, медленно попиваю теплое сладкое вино, читаю молитвенник, чтобы иметь представление о содержании молитв. Голова моя затуманилась, но уснуть я боялся, как бы кто-нибудь не зашел и не застал меня врасплох. Около полуночи я вышел оттуда, унося в нейлоновом мешке с дюжину молитвенников. Если спросят, чего я тут околачиваюсь, скажу, что меня послали раздать молитвенники солдатам. Лагерь немного успокоился, возбуждение у людей немного спало, я наткнулся даже на стоявших в обнимку солдата и солдатку. Как будто нет никакой войны на свете.
«Моррис» ютился между двумя разбитыми ганками, весь покрытый пылью. Двери были заперты, но я помнил, что одно из окон держится непрочно. Мне удалось легко проникнуть внутрь; руки мои задрожали, прикоснувшись к рулю. Я положил на него голову. Словно не несколько дней войны, а целая вечность прошла с тех пор, как я расстался с машиной.
У меня уже был наготове кусочек фольги, который я вытащил из сигаретной пачки, и, как в далекие годы, когда я по ночам брал машину тайком от бабушки, я наклонился под руль и сразу же нашел место, где присоединяются провода зажигания. И аккумулятор, который ты, Адам, заменил, новый аккумулятор, который ты поставил несколько недель тому назад, сразу же ответил на легкое прикосновение — мотор завелся мгновенно.
И я поехал — на север, на восток, черт знает куда. Я плохо ориентируюсь, ищу указатели, останавливаюсь и спрашиваю, как вернуться обратно в Эрец-Исраэль.
— В какую Эрец-Исраэль? — со смехом переспрашивают меня солдаты армейской полиции.
— Неважно, не имеет значения, лишь бы выбраться из пустыни…
А все движется мне навстречу. Танки, пушки, огромные грузовики с боеприпасами. Грохочущая река цвета хаки плыла мне навстречу с приглушенными огнями. А я в своем маленьком драндулете пробираюсь против течения, теснюсь к обочине и все равно мешаю уверенному движению колонн. До моего слуха доносятся проклятия: «Вот чумазый дос,[59] нашел время разгуливать по Синаю». Но я отмалчиваюсь, только робко улыбаюсь, маневрируя между колоннами. Еду без остановок, упрямо, как одержимый, продвигаюсь вперед, лечу по разбитым дорогам, стремлюсь как можно скорее выбраться из пустыни.
Утром я добрался до большого магазина для военнослужащих в Рафиахе, усталый и изможденный после ночной езды, но опьяненный свободой. Сразу же зашел туда, чтобы купить что-нибудь поесть, перехожу от прилавка к прилавку, съедаю суп, ем сосиски, грызу шоколад и конфеты. Вдруг я замечаю в толпе группу религиозных, в черных, как у меня, костюмах. Они с любопытством следят за мной, пораженные моим диким поведением, моей безграничной свободой, наблюдают, как я шастаю себе от прилавка с мясными продуктами к прилавку с молочными и обратно. Я сейчас же решил скрыться. Но у выхода один из них остановил меня, положив руку мне на плечо.
— Подожди минутку, мы тут ищем десятого для утренней молитвы…
— Я уже молился вчера… — Я высвобождаю свое плечо и удираю от них, залезаю в свой «моррис», завожу его и даю газ, оставив их в недоумении.
И вот через несколько километров пустыня наконец-то кончилась. Появляются пальмы, белые дома, мягкие дюны, засаженные фруктовыми садами. Эрец-Исраэль. И чудесный запах моря. Я медленно сбавляю скорость. Итак, я спасен. Лишь теперь я почувствовал, до чего устал. Голова кружится, глаза закрываются. Я выхожу из машины и вдыхаю утренний воздух. Чувствую запах моря. Но где же море? Внезапно я ощутил, что оно необходимо мне, что я должен прикоснуться к нему. Но как добраться отсюда до моря? Я останавливаю лимузин какого-то важного офицера, мчащийся мне навстречу. «Где море?» А он рассердился, чуть не ударил меня, но все-таки показал, куда ехать.
Я прибываю на совершенно чистый берег, вокруг тишина, я за пределами мира, словно нет государства, нет войны, ничего нет. Только шорох волн.
И я ложусь под финиковую пальму, море — вот оно, и сразу же засыпаю, словно под наркозом. Я мог бы лежать так не один день, но заходящее солнце стало светить прямо в глаза, и я проснулся, покрытый песком. Маленький песчаный холмик сдвинулся и прикрыл меня. Такое приятное тепло. А я продолжаю дремать, наслаждаюсь морским ветром, ворочаюсь под песчаным одеялом и, не вставая, снимаю с себя одежду — черный пиджак, цицит, брюки, белье, ботинки и носки, лежу совершенно голый в песке, а потом встаю, отряхиваюсь и иду к морю окунуться.
Что особенно было чудесно — так это совершенное одиночество. После долгих дней в людском круговороте я снова один. Никого нет вокруг. Такая мягкая тишина. Даже шума моторов не слышно из-за шороха волн. А арабы, живущие здесь, как видно, боятся показываться из-за войны. Я надеваю нижнее белье и брожу по берегу, словно он — моя собственность. Чувство времени вернулось ко мне. Все готовится к закату. Солнце, как глаз циклопа, лежит на линии горизонта, тихо смотрит на меня.
Я подхожу к «моррису», машина моя стоит, безмолвная и верная, лицом к морю, и вдруг я со страхом обнаруживаю в ней вещи, принадлежащие тому офицеру; он превратил машину в свой склад. На заднем сиденье несколько сложенных одеял, маленькая палатка разведчиков и даже его таинственная сумка с картами. Я открываю ее дрожащими руками и вижу целую кучу подробных карт Ближнего Востока, Ливии, Судана, Туниса. Маленькая коробочка, в ней — знаки отличия подполковника: сам себе подготовил на случай повышения в чине. И еще — матерчатый белый мешочек и в нем два старых яйца, смятых, с розоватой скорлупой. Я тут же, ни капли не раздумывая, очистил их и с большим удовольствием принялся есть, читая найденный мною интересный документ. Что-то вроде завещания, написанного им жене и двум своим сыновьям. Написано с подъемом, возвышенным стилем, что-то о себе, о народе Израиля, какая-то странная мешанина — предназначение — миссия, история, судьба, страдание. Выспренние фразы, сплошное благочестие и жалость к себе. Меня зазнобило при мысли, какая ярость охватит его, когда он обнаружит, что машина исчезла, — он не успокоится, пока не найдет ее. Может быть, уже пустился в погоню, уже где-то поблизости. Не похоже, чтобы у него нашлось какое-нибудь дело на этой войне.
Я беру все бумаги и карты, рву их на мелкие куски и зарываю в песок, пустую сумку бросаю в море, очищаю машину от следов его присутствия. В багажнике я нашел кисть и большую банку с краской, оставшуюся после того, как он закрасил перед нашим отъездом фары. Внезапно у меня возникает идея — покрасить машину черной краской, изменить цвет.
И я сразу же приступаю к делу. Размешиваю подсохшую сверху краску и в сумерках, дождавшись заката, начинаю широкими мазками красить машину. Стою в одном белье и при слабом вечернем свете превращаю свой «моррис» в гроб. Наношу последние мазки, напевая старую французскую песенку, и вдруг чувствую: кто-то наблюдает за мной. Поворачиваю голову и обнаруживаю за своей спиной на маленьком песчаном холмике несколько силуэтов. Кучка бедуинов в абайях сидит и смотрит, что я делаю. Пришли незаметно. Когда? Кто знает! Кисть выпала у меня из рук в песок. Вот когда я пожалел, что выбросил противотанковое ружье. Остался только штык.
Сидят и глаз с меня не сводят. Я для них — целое событие. Может быть, обсуждают, что со мной делать. Легкая добыча, сама далась им в руки.
Они, наверно, заметили, что я испугался. Вижу, некоторые медленно поднимают руку, словно салютуют, явно это жест приветствия.
Я улыбаюсь им, слегка кланяюсь издали. Подбираю свою одежду и торопливо одеваюсь. Рубашку, цицит, брюки, черный пиджак, даже шляпу. Вдруг мне показалось, что именно эта одежда спасет меня от нападения. А они следят за моими действиями, удивлены, наверно, нет, без всякого сомнения — удивлены. Я вижу, как они вытягивают головы, чтобы получше видеть меня.
Я быстро собираю оставшиеся вещи, зарываю их в темноте в песок, зная, что все, что я закопал, будет вырыто, как только я исчезну, влезаю в машину и пытаюсь завести ее. Но от волнения напутал, очевидно, что-то с проводами, и машина только застонала. Бьюсь минуту-другую, вижу, как они приближаются ко мне, встали в кружок на расстоянии нескольких шагов от машины, смотрят, как я вожусь под рулем.

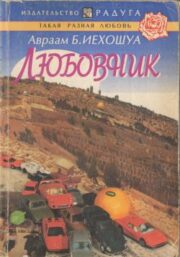
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.