И тот немедленно велел мне лечь на землю, дал ружье в руки и начал читать лекцию о прицелах, расстояниях, видах снарядов, об электрической цепи. А я киваю головой, но слушаю его вполуха, воспринимаю только один факт — что из-за отдачи может ранить самого стреляющего. Этот очкастый солдат все время повторял и предупреждал, что отдача очень опасна, он, наверно, сам обжегся однажды. Посреди этого странного частного урока нас позвали есть. Открыли множество консервов. Но я был единственным, у кого еще сохранился аппетит. Они немного удивились, увидев, с какой страстью я набросился на еду. Открывают банку за банкой, пробуют ее содержимое и передают мне, развлекаются, глядя, как я с ложкой в руке опустошаю одну за другой, без всякого порядка, — с фасолью, компотом, соком грейпфрута, мясом, халвой, сардинами, и на десерт съедаю соленые огурцы. Вылизал все подчистую. А тем временем транзистор, стоящий среди пустых консервных банок, тарахтит беспрерывно, и я наконец-то слышу новости, которых был лишен все последние сутки. Тяжелые вести, неясные, запутанные, обернутые в какие-то новые слова-прикрытия: бой на истощение, сдерживающий бой, выравнивание, выжидание, концентрация сил. Слова, которыми пытаются прикрыть страшную действительность, а я нахожусь глубоко внутри ее.
И вдруг я почувствовал одиночество, страшное одиночество, и в сердце пустота. Представьте меня внутри всей этой суматохи. Сижу в гуще колонн, у гусеницы бронетранспортера, стараясь спрятаться от солнца в маленьком кусочке знойной тени, вокруг тошнотворный запах отработанного бензина. Одежда грязная, как будто я прошел уже две войны, и я вижу, что дело идет к моей гибели. Войска беспрерывно катят мимо нас, огибают наш островок. Танки, бронетранспортеры, джипы и пушки. Свист беспроволочных телефонов и радостные крики солдат, узнающих своих друзей. И я начинаю понимать — живым мне отсюда не вырваться. Мне вдруг захотелось написать вам открытку; но нас спешно подняли на подготовку к выступлению.
Проехали километр или два, развернувшись фронтом к горизонту, и нам приказали остановиться. И так стояли мы в боевой готовности, с касками на головах, водители не оставляют руль целых четыре часа, смотрим в сторону угрожающего, смутно прорисованного горизонта, туда, где идут неслышные отсюда бои. Следим за похожими на гриб столбами пыли, возникающими вдали, за дымом далеких пожаров — знаки, которые все вокруг меня взволнованно комментируют. Постепенно пустыня стала приобретать красноватый оттенок, а на пыльной линии горизонта расцвел вдруг шар солнца, словно кто-то поднял его над пылающим каналом как какой-то военный аксессуар, тоже участвующий в бою. А перед самым заходом солнце стало рассыпаться, словно его взорвали, и наши лица, и бронетранспортер, и оружие в наших руках окрасились алым цветом.
И на этом самом месте, развернувшись фронтом, мы прождали два дня, точно застыли на своих позициях. Личное, линейное время разбилось вдребезги, коллективное, общее время размазалось по нам, как липкая каша. Все происходило одновременно. Едим и спим, слушаем радио и справляем малую нужду, чистим оружие и слушаем лекцию, которую читает нам чудаковатый лектор, прибывший с маленьким магнитофоном и с кассетами современной музыки. Играем в шеш-беш, слоняемся по замкнутому кругу, вспрыгиваем на бронетранспортер во время ложной тревоги, следим глазами за вылетающими и возвращающимися самолетами, а в другом месте, вне нас, не имея к нам никакого отношения, восходит и заходит солнце, опускаются сумерки и ночи, наступают пылающие полдни и прохладные утра. Мы уже отброшены за пределы мира, чтобы нас было легче лишить жизни, а я, чужой в квадрате, или, как меня называли, «вернувшийся йоред», кручусь среди молодых мальчишек, слушаю их глупые анекдоты, их детские и девственные фантазии. А они не знают, как себя держать со мной, все еще помнят впечатление, которое произвел на них мой дикий аппетит в первый день, и предлагают мне кусок пирога, печенье, шоколад, и я рассеянно беру у них и угрюмо грызу, бродя между транспортерами. Однажды посреди ночи я решил убежать. Взял туалетную бумагу и стал удаляться в сторону холмов, думая, что там никого нет. Но, к своему удивлению, обнаружил, что и там стоят наши войска, вся пустыня кишела людьми.
Наконец мы начали двигаться, медленно, словно вылезая из топкого болота. Уже обессиленные, обросшие бородой, проедем немного и останавливаемся, останавливаемся и снова трогаем. Поворачиваем на юг и возвращаемся на север, сворачиваем на восток и снова возвращаемся к основному направлению и движемся вперед. Словно какой-то командир-лунатик издалека приводит нас в движение. И вдруг, без всякого предупреждения, на нас упали первые снаряды, и кого-то убило, и так началось для нас сражение. Ложимся, поцарапаем немного землю — и снова залезаем на машины и едем. Время от времени открываем огонь из всех орудий и автоматов по желтым целям, которые тоже движутся, как какие-то лунатики, на затянутом пылью горизонте. Я не стрелял. Хотя базука все время и висела на мне, но снаряды были засунуты глубоко под одну из скамеек. Я сидел сжавшись, каска скрывает мое лицо, превратился в какую-то вещь, предмет, лишенный воли, в неживое создание, которое изредка выглядывает, чтобы посмотреть на окружающий вид, на бесконечную монотонную пустыню. У нашего подразделения все время меняется состав, расформировывают и снова комплектуют. Командиры тоже меняются. Мальчишка командир куда-то исчез со временем, и другой командир, в летах, стал командовать нами. Наш бронетранспортер испортился, и нас перевели на другой. Все время изменения — передают нас кому-то, а потом забирают. Иногда попадаем под обстрел, кратковременный или продолжительный, и зарываемся в песок. Но продвигаемся вперед — это ясно. Люди пытаются взбодрить себя. Приближается победа, наконец-то. Но победа горькая, тяжелая. Однажды вечером мы прибываем к какому-то важному полевому командному пункту. Охраняем одного полковника, который сидит среди десятка своих связных, окруженный проводами и телефонными трубками. Усталый человек, глаза от бессонных ночей превратились в щелки, сидит на земле, берет трубку за трубкой и с бесконечным терпением, ужасно медлительно, сонным голосом передает приказы в пространство. Всю ночь сидели мы около него, и я пытался понять по его реакции, как идет сражение. Похоже, положение становится все более и более сложным. Когда начало рассветать, во время краткой передышки я набрался храбрости, подошел к нему и спросил, когда, по его мнению, закончится война. А он посмотрел на меня с отеческой улыбкой и тем же сонным голосом, ужасно медленно стал говорить о длительной войне, он считает, что это дело месяцев или даже лет, а потом взял одну из трубок и своим усталым голосом отдал приказ о небольшой атаке.
А между тем все молодые ребята вокруг уже становятся похожими на меня. Стареют. Волосы побелели от пыли, на щеках отросла щетина, лица покрылись морщинами, глаза ввалились от бессонницы. Там и здесь мелькают головы в грязных бинтах. А вдали поблескивает вода канала. Нам велят слезть с машин и глубоко окопаться. Каждый роет свою собственную могилу.
И тут я услышал это песнопение. Звуки пения, молитвы, живые звуки, не из транзистора. Было еще темно, только первые признаки рассвета. Мы дрожим от холода, скорчились под одеялами, мокрыми от росы, просыпаемся и видим, как три человека, одетые в черное, с пейсами и бородами, прыгают и раскачиваются, поют и хлопают в ладоши. Словно хорошо слаженная рок-группа. Подходят к нам, прикасаются своими мягкими белыми руками, будят нас, чтобы вернуть нам веру. Их послали из ешивы ходить по разным подразделениям, раздавать маленькие молитвенники, ермолки и цицит, повязывать солдатам филактерии.[58]
И уже некоторые из нас окружают их, вступают с ними в беседу. Сонные лохматые солдаты закатывают рукава, растерянно улыбаются, повторяют за ними слова молитвы. А они благословляют нас. «Великая победа, — говорят они, — снова свершилось чудо. Милость небес». Но чувствуется, что нет в них уверенности, что они говорят не от всего сердца. На этот раз мы их немного разочаровали.
Встает солнце, воздух быстро нагревается. Уже хлопочут с завтраком, от костра поднимается дым. А из транзисторов льются утренние новости. Люди в черном уже закончили свой обход, сложили вещи, филактерии и все прочее, уселись на небольшом холмике, сняли со своей машины маленькие старые чемоданы из картона и вытащили свою утреннюю трапезу. Мы пригласили их позавтракать с нами. Но они вежливо отказались. Опускают головы, улыбаются про себя. У них своя еда. До наших фляжек они боятся даже дотронуться, опасаясь греха. Я подошел к ним. Они достали еду, которая лежала вместе с принадлежностями культа — молитвенниками и цицит: хлеб, крутые яйца, помидоры и огромные огурцы. Посыпают их солью и едят вместе с кожурой. Из большого красного термоса отпивают какой-то желтоватый напиток, наверно старый чай, который привезли с собой из Эрец-Исраэль. А я стоял и смотрел на них, не мог оторваться. Я уже успел забыть, что такие евреи существуют в действительности. Черные шляпы, бороды, пейсы. Они сняли пиджаки и сидели в белых рубашках, как пришельцы из другого мира. Двое из них были пожилые — лет сорока, а между ними сидел очень красивый юноша с реденькой бородкой и длинными пейсами. Он казался смущенным и немного испуганным посреди всей этой суматохи, берет своей белой рукой еду, лежащую на старой религиозной газете.
Я не отходил от них. А они заметили мой взгляд. Приветливо улыбнулись мне. Я взял у них маленькую цицит и положил в карман, все еще стою около них. Они продолжают есть, раскачиваясь и болтая на идиш. Я не понял ни слова, но уловил, что они спорят на политические темы. А я все стою рядом, лохматый, грязный солдат со щетиной десятидневной давности на щеках, уставился на них во все глаза. Они стали даже конфузиться.
Вдруг я сказал:
— Нельзя ли получить помидорину?
Они растерялись, очень уж странно я себя вел, но тот, что постарше, быстро пришел в себя и протянул мне помидор. Я посыпал его солью, подсел к ним и закидал их вопросами. Откуда они прибыли? Что делают? Как живут? Куда направляются отсюда? И они отвечают мне, а те, что постарше, все время раскачиваются, словно их ответы тоже вроде молитвы. И вдруг что-то как будто ударило меня. Эта их свобода. Они, в сущности, не имеют к нам отношения. По своей воле пришли сюда и по своей воле уйдут. Никому ничего не должны. Передвигаются по пустыне между военными подразделениями, как какие-то черные жуки. Сверхъестественные создания. Я не мог оторваться от них.

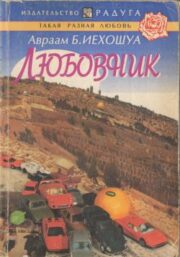
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.