— Какой сон? — спрашиваю я осторожно.
— Кошмар какой-то. Я видела тебя во сне. Мне снилась ты.
— Кошмар? Что ты видела?
— Странный сон, путаница какая-то. Как будто мы поехали в далекую страну и ты заболела там.
Вдруг она притягивает меня к себе, обнимает. Мне очень понравился этот сон, в котором я была больна. Я обнимаю ее в ответ. Ее прежний запах. Значит, она не совсем еще бесчувственна.
— Опасная болезнь? — спрашиваю я.
— Нет… — быстро говорит она, скрывает что-то, — да и какое это имеет значение… глупости… Ты не спала, когда директор позвонил?
— Да…
Она медленно разжимает объятия.
— Опять не могла уснуть? Что с тобой происходит?
— Ничего. Просто не могу уснуть.
— Ты влюблена в кого-нибудь? Мама…
— Нет! С чего это вдруг?
— Ни в кого? — Она улыбается милой такой улыбкой. — Не может быть…
— Почему не может быть?
— Потому что в твоем классе есть несколько симпатичных мальчиков.
— Откуда ты знаешь?
— Ведь я вела у вас урок. Видела… Некоторые очень славные.
По ее мнению…
— Кто именно?
— Не помню… просто несколько лиц произвели на меня впечатление.
— Но кто?
Она все еще рассеянно гладит меня.
— Неважно. Я просто так сказала… пошутила. Так что же ты делаешь, когда не спишь, читаешь в кровати?..
— Нет. Брожу, ем что-нибудь, слушаю музыку…
— Музыку? Ночью? А я ничего не слышу. Вы вообще лежите как два мертвеца — даже если взорвут дом, ничего не почувствуете…
— Странно. Днем я не замечаю в тебе особой усталости. Удивительно, как это ты проводишь в одиночестве ночи. Хоть бы я могла обходиться меньшим временем для сна… И не скучно тебе одной в темном доме… время движется так медленно…
Мама…
— Ничего страшного… Иногда, когда выхожу немного погулять на улицу, так даже очень приятно.
— Что???
— То, что слышишь…
— Ты ночью выходишь из дома? С ума сошла? Ты знаешь, что может случиться с девочкой в двенадцать ночи, если она бродит так просто по улицам?..
— В два ночи, не в двенадцать. Уже нет никого…
— Дафи, перестань…
— А что тут такого? Что может случиться? Совершенно тихо, а если что, то есть патрули гражданской обороны… очень симпатичные старички…
— Дафи, хватит, не возражай…
— Что может со мной случиться, я далеко не отхожу. До поворота, где задавило Игала, и обратно…
Она мгновенно побледнела. Рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак… Хочет сказать что-то, но не может произнести ни слова. Надо помочь ей.
— Но ведь вы рассказывали…
— Кто рассказывал? — Она вскакивает.
— Папа.
— Когда он рассказывал? — Она вся пылает.
— Недавно.
Она начинает грызть ногти, страдает. Совсем растерялась. Я продолжаю наивным голосом, наставительно:
— Да и что тут утаивать… почему мне нельзя знать… Папа сказал, что он умер на месте и наверняка не мучился…
Она не отвечает, смотрит на часы, окаменела, не хочет отвечать. Я все испортила.
— Ты думаешь, он мучился? — говорю я мягким, душевным тоном. Иногда я бываю ужасной, нестерпимой, настырной — я знаю.
— Какое это теперь имеет значение… довольно, Дафи…
Она не поддается…
Тишина. Тиканье часов. Такая прозрачная летняя ночь. Во всем доме свет. На столе полно хлебных крошек. Мама, застыв, сидит на своем месте, взгляд отсутствующий, тяжелый, напряжена, словно пружина. Время от времени вглядывается в меня. Милая улыбка исчезла с ее лица. Ночные сверчки. Бедный папа. Поехал с Наимом до самого Лода. Он был такой усталый, не хотел просыпаться, мне просто пришлось вытащить его из кровати.
— Лучше бы его убило, — вырывается у меня тихо, задумчиво.
— Кого?
— Шварци.
— Хватит, Дафи…
— А что такого? Он уже не молодой…
— Перестань, Дафи. Она умоляет…
— Ладно, пусть не убит, лишь тяжело ранен, чтобы пролежал несколько месяцев в больнице…
— Хватит!
— Хорошо, даже без крови, только сотрясение мозга, чтобы был парализован, верхняя часть, чтобы не мог говорить…
И тогда она залепила мне пощечину. Побила меня. Наверно, уже лет семь она меня не трогала. И я успокоилась. Мне стало легче. Щека горит, из глаз текут слезы, но что-то открылось во мне от этого удара, что-то растаяло. Такой несовременный удар-пощечина. Я не двигаюсь, не вскакиваю, лишь медленно провожу рукой по щеке, щупаю, цела ли.
Она же ужасно испугалась из-за этой пощечины, схватила меня за руку, словно боится, что я дам ей сдачи. Наговорила я достаточно — она почти плачет.
— Он исключит меня из школы? — спрашиваю я тихо, ни единым словом не упоминая о пощечине, тихая, спокойная и усталая, такая приятная усталость, усталость перед тем, как засыпаешь.
Она все еще держит меня за руку.
— Не знаю.
— Но как ты думаешь? Она задумывается… мама…
— Разве ты не заслужила?
— Отчасти…
— Что значит «отчасти»?
— Заслужила.
— Тогда, наверно, он исключит тебя. Ничего страшного. Найдем другую школу…
Я устало поднимаюсь, никогда не испытывала такой усталости, зевота раздирает рот… дурацкая такая… Вторая щека горит тоже, словно и по ней ударили, я, пошатываясь, иду в кровать, мама поддерживает меня, укрывает одеялом, гасит свет. В моей комнате темно, а весь дом освещен, как было всегда, как должно быть. Она садится на кровать возле меня, как в те далекие дни, и я говорю себе: «Жаль засыпать сразу же» — и, еще не додумав эту мысль, проваливаюсь в сон.
Ведуча
Неужели дело идет к концу? Уже несколько недель я вижу свое тело как бы отделившимся от меня. Не чувствую вкуса еды, словно кладу в рот известь или вату. Добавляю соль или перец, красный и черный, и ничего не ощущаю. Я не чувствую вкуса, а Наим раздражается, не понимает, почему так жжет. Ужасно остро. «Вы что, влюблены?» Такой негодяй. А я боюсь сказать ему, что смерть приближается: если он почувствует, что это конец, — убежит отсюда, а я уже не могу оставаться одна.
Он ужасно раздражительный, нет у него терпения. Забыли о нем — это правда. Он как-то опустился. Кровать не застелена, носки валяются на полу, непрестанно курит, я все время слежу за пепельницами — нет ли гашиша. Кто знает, все может быть.
Даже газеты не хочет мне читать. Только прочитывает заголовки и говорит: «Все вранье, сплошные глупости. Не верьте им». Что это? Вернулись под власть турок? Как он позволяет себе так разговаривать! Один раз я даже хотела позвонить в полицию, чтобы взяли его под присмотр.
Адам забыл о нем, но деньги, наверно, дает ему, иначе на что бы он ходил каждый день в синема? Смотрит по два сеанса за вечер. Я говорю ему: «Хоть расскажи мне, что видел, расскажи содержание, ужасно скучно мне». А я разбираюсь в синема. Когда ноги еще носили меня, каждый вечер ходила смотреть фильмы. Но он отказывается: «Что тут рассказывать? Оставьте меня, эти картины не для вас, сплошные объятия, поцелуи и револьверы, ничего не поймете».
Научился отвечать…
Испортился, мамзер…
«Фаттах»…
Сидит в кресле, красивый, симпатичный, и смеется.
Что делать?
Я завишу от него полностью, уже почти не могу ходить, передвигаюсь от стула к стулу. Если бы он не покупал еду и не выносил мусор, совсем худо было бы мне.
Я достаю и отдаю ему старую одежду, совсем опустошаю шкаф, и он молча берет. Купил себе какой-то старый чемодан и начал заполнять его.
Я уже не чувствую пальцев ног, словно они исчезли. Это признак конца. С кресла встать сама уже не могу, он должен вытаскивать меня.
Посреди ночи позвонил Адам, чтобы он помог ему отбуксировать машину. Я сначала подумала, не стало ли что-нибудь известно о Габриэле, но ошиблась. Иногда я говорю себе: «Не приходит Габриэль, и Адам тоже, а если бы пришел, то это означало бы, что внук действительно убит».
Араб надел рабочую одежду, уже давно не прикасался он к ней. Я сказала ему: «Вот эта одежда тебе подходит, а не то дикарство, которое ты покупаешь. Теперь осталось только постричься, и ты снова станешь человеком», но он не ответил, посмотрел на меня исподлобья, оставил меня в кресле и вышел.
И так я сижу здесь всю ночь, не могу встать. Ноги как ватные. А на улице постепенно рассветает. Они все не возвращаются. Наверно, тяжелый случай. Я пытаюсь встать, но проваливаюсь обратно. Все окна открыты, забыл закрыть. Вдруг стало холодно. Я сижу в легкой ночной рубашке, как встала с кровати. Холод проникает в мои сухие кости. Я нагибаюсь, начинаю подбирать газеты, разбросанные вокруг, газеты, которые я не читала и которые мне так хотелось прочитать, все эти рассказы о несчастном правительстве, укрываюсь ими, подкладываю под голову, за спину, под бока, уже не разбираю, где «Едиот ахронот» и где «Маарив», засовываю сюда и засовываю туда, чтобы было немного помягче и потеплее бедному телу.
А в окне — восходящее солнце. Руки медленно опускаются. Пальцев не чувствую, словно в них перегорели провода.
На этот раз все наоборот… тело исчезает и только мысль остается…
Адам
А я все стою на том же месте, на шоссе, ушел в свои мысли, курю сигарету за сигаретой, кусок железа в моей руке уже совсем голубой. Машины без конца мчатся по шоссе. Ревут взлетающие в аэропорту самолеты. Тягач стоит на обочине дороги, на нем подвешена машина директора, покрытая листьями. Наим сидит на валу, глаза его закрыты, подпирает голову ладонями, молча ждет меня.
Итак, «моррис» существует. Не сброшен в вади, не зарыт в песок. Его покрасили, чтобы никто не узнал. Может быть, украли? Но кто? Религиозные?

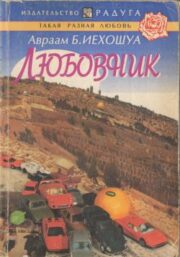
"Любовник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовник" друзьям в соцсетях.